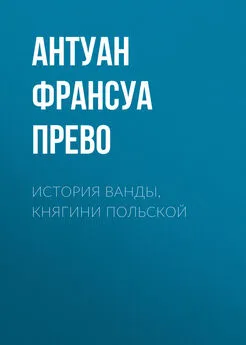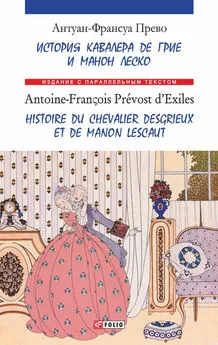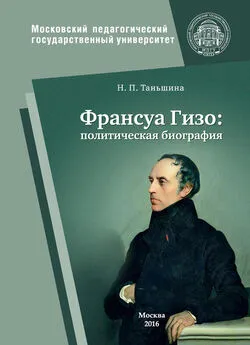Франсуа Гизо - История цивилизации в Европе
- Название:История цивилизации в Европе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-91129-031-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франсуа Гизо - История цивилизации в Европе краткое содержание
«Франсуа Пьер Гильом Гизо – государственный человек и знаменитый писатель Франции, член Парижской академии наук... Предлежащее сочинение, вместе с его „Историей английской революции“, несомненно лучшее из всех исторических сочинений Гизо».
История цивилизации в Европе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Каким же образом церковь, доступная для всех людей, удостоверилась в праве их на обладание властью? Каким образом открывалось и выдвигалось вперед из недр общества всякое законное превосходство, имеющее право на участие в духовном правительстве?
Два начала господствовали в церкви: 1) избрание низшего высшим, выбор, назначение; 2) избрание высшего подчиненными, т. е. избирательство в тесном смысле, как мы теперь это понимаем.
Посвящение в священники, например, право сделать кого-либо священником, принадлежало одному только высшему духовенству; выбор подчиненного в этом случае производился начальником. Точно так же, при раздаче некоторых церковных бенефиций, связанных с феодальными обязанностями, назначение владельцев находилось в руках высших лиц: короля, папы или сеньора. В других случаях, действовал принцип избирательства в тесном смысле слова. В рассматриваемую нами эпоху право избрания епископов долго принадлежало всему духовенству; иногда в этом участвовали и миряне. В монастырях аббат избирался монахами. В Риме папы избирались коллегиею кардиналов, а до учреждения этой коллегии – всем римским духовенством. Итак, в рассматриваемую нами эпоху, в церкви существовали и действовали оба начала, по которым может происходить установление и признание власти: выбор низшего высшим и избрание высшего подчиненными; тем или другим путем выдвигались люди, призванные к обладанию известною долею церковной власти.
Эти два начала не только существовали друг подле друга, но, существенно различные между собою, находились в постоянной борьбе. По прошествии многих веков, после многих переворотов, назначение низшего высшим получило перевес в христианской церкви. Но между V и XII веками преобладало еще, вообще говоря, противоположное начало – избрание высшего подчиненными. Не следует удивляться одновременному существованию двух столь различных начал; взгляните на общество, на естественный ход исторических событий: вы увидите, что везде передача власти совершается тем и другим из указанных мною способов. Церковь не изобрела их; она нашла их уже выработанными вековою деятельностью человеческого рода и оттуда заимствовала их. И в том, и в другом способе есть своя доля истины и пользы. Их соединение часто было бы лучшим средством к установлению законной власти. К несчастию, один только из этих способов – назначение низшего высшим – получил преобладание в церкви, хотя, впрочем, и другой никогда не исчезал в ней окончательно. Под разными наименованиями, с большим или меньшим успехом, он появлялся в ней во все эпохи, с такою, по крайней мере, силою, что мог протестовать и нарушать течение давности.
В рассматриваемое нами время, христианская церковь почерпала неиссякаемую силу в своем уважении к равенству и к законным превосходствам. Это было самое популярное общество, самое доступное, открытое для всех талантов, для всех благородных стремлений человеческой природы. Этим она в особенности обязана своим могуществом, гораздо более, чем своим богатством и незаконным средствам, к которым она, к сожалению, слишком часто прибегала.
Что касается до второго условия нормального правительства – уважения к свободе – то с этой стороны церковь оставляла желать весьма многое.
В ней выработалось два дурных начала: одно признанное, воплощенное, так сказать, в учении церкви; другое – введенное в ее среду человеческою слабостью, но отнюдь не как естественное последствие христианского учения.
Первое начало – отрицание прав личного разума, притязание на передачу верований сверху вниз, во все религиозное общество, без предоставления кому бы то ни было права самостоятельной оценки их. Возвести такое притязание в принцип легче, чем доставить ему действительное преобладание. Убеждение не входит в разум человека, если сам разум не пролагает ему к себе дорогу; нужно, чтобы убеждение сумело заставить принять себя. В каком бы виде оно не представлялось, какое бы имя ни носило, разум всматривается в него, и если оно проникает в разум, то, следовательно, оно принято им. Человеческий разум постоянно действует под различными формами на идеи, которым стараются подчинить его. Несомненно, впрочем, что разум может сбиваться с истинного пути; он может, до известной степени, отречься от своего назначения, ограничить сферу своей деятельности; он может быть приведен к злоупотреблению своими силами или к неполному пользованию ими. Таково было весьма часто последствие вредного начала, принятого церковью; но что касается до полного и совершенного действия этого принципа, то оно никогда не имело и не могло иметь места.
Второе дурное начало – это право принуждения, присвоенное себе церковью, право, противоречащее самому свойству религиозного общества, происхождению церкви, ее первоначальным правилам: право, оспаривавшееся многими из знаменитейших отцов церкви, св. Амвросием, св. Гиларием, св. Мартином, но тем не менее приобретавшее перевес и стремившееся к преобладанию. Притязание вынуждать верование – если только эти два слова могут быть поставлены друг подле друга – или материально наказывать за верованье, преследование ереси, т. е. пренебрежение законной свободы человеческой мысли – вот заблуждение, которое проникло в церковь еще гораздо ранее V столетия и весьма дорого обошлось ей.
Итак, рассматривая церковь в отношении к свободе ее сынов, нельзя не признать, что начала ее по этому предмету были менее законны, менее благотворны, нежели по предмету образования церковной власти. Не должно, однако, думать, что одно дурное начало влечет за собою радикальную порчу учреждения и что оно действительно причиняет все то зло, которое носит в самом себе. Ничто так не извращает истории, как логика: ум человеческий, остановившись на одной идее, извлекает из нее все возможные последствия, заставляет ее произвести все зависящие от нее действие и в этом виде вносит ее в историю. На самом деле бывает совсем не то: события не так скоры в своих выводах, как ум человеческий. Во всем и везде существует такая глубокая, неизбежная смесь добра и зла, что куда бы мы ни проникли, во всех самых сокровенных элементах общества или души человеческой мы найдем одновременное существование, одновременное развитие этих двух фактов, борющихся между собою, но не исключающих друг друга. Человеческая природа никогда не доходит до последних пределов добра или зла; она беспрерывно переходит от одного к другому, восставая в ту минуту, когда, по-видимому, она всегда ближе была к падению, ослабевая, когда, по-видимому, шла самыми твердыми стопами. И здесь мы встречаем тот характер нестройности, разнообразия, борьбы, который я уже признал отличительным признаком европейской цивилизации. Кроме того, есть еще один общий факт, свойственный церковному правительству и требующий внимательного изучения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

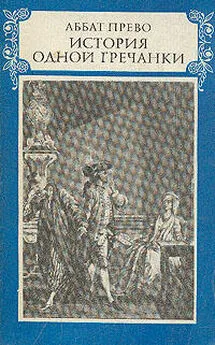

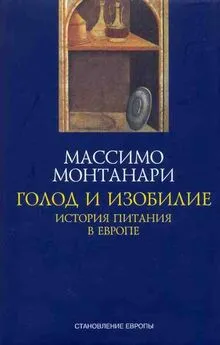
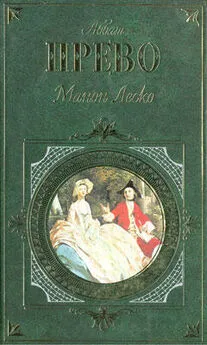
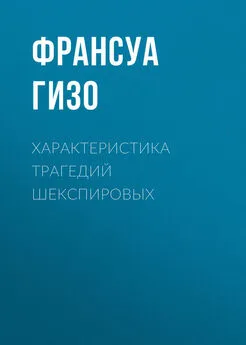
![Наталия Таньшина - Франсуа Гизо: политическая биография [litres]](/books/1066752/nataliya-tanshina-fransua-gizo-politicheskaya-biogra.webp)