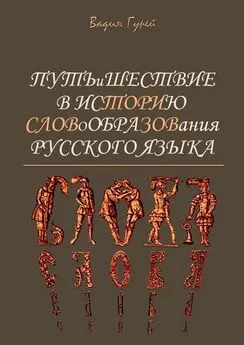Вадим Кожинов - От Византии до Орды. История Руси и русского Слова
- Название:От Византии до Орды. История Руси и русского Слова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6995-1170-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Кожинов - От Византии до Орды. История Руси и русского Слова краткое содержание
Книга выдающегося просветителя минувшего века Вадима Валериановича Кожинова (1930–2001) посвящена ранней истории России. На основе новейших источников, с присущей автору неординарностью подхода ко многим, казалось бы, известным фактам, в ней прослеживается исторический путь нашей страны от конца VII до начала XVI века. В новом свете предстает «Повесть временных лет», Хазарский каганат, Куликовская битва 1380 года и борьба с ересями… «Специальные» разделы книги могут быть интересны тем, кто ставит перед собой задачу самым доскональным образом изучить отечественную историю во всех ее предпосылках и проявлениях.
Издание адресовано самым широким слоям читателей.
От Византии до Орды. История Руси и русского Слова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Позднее союз Руси с Византией — несмотря на те или иные противоречия — становился все более прочным. Выше приводилось относящееся к 943 году сообщение арабского хрониста Масуди, согласно которому Русь «воюет с Румом» (Византией). Но всего через десятилетие, в 954–955 гг., — то есть уже во время правления Ольги, тот же Масуди сообщил, что многие из «племен ар-Рус… в настоящее время вошли в общность ар-Рум… И они (византийцы) поместили их (русских) гарнизонами во многих из своих крепостей… обратили их против… народов, враждебных им» [433] Бейлис В. М. ал-Масуди о русско-византийских отношениях в 50-х годах Х века. — в кн.: Международные связи России до XVII века. — М., 1961, с. 22.
. Исследователь этого текста, историк В. М. Бейлис, писал, что «указание ал-Масуди следует воспринимать именно в том смысле, что современное положение установилось недавно… о вступлении русов в союз (с Византией. — В. К. ) ал-Масуди узнал лишь сейчас… Сообщение ал-Масуди об участии русов в борьбе Византии с ее внешнеполитическими противниками подтверждается и несколькими позднейшими, но зато более конкретными известиями» (цит. соч., с. 27, 28).
Начало же этого прочного союза с Византией В. М. Бейлис справедливо видит в действиях Игоря: «По договору 944 г. существуют уже взаимные обязательства. Византийские императоры дают войска русскому князю: „Аще просить вои у нас князь русский да воюеть, да дам ему елико будет требе“. Русские воины в случае необходимости являются в Византию… „Аще ли хотети начнеть наше царство от вас вои на противящаяся нам да пишем к великому князю вашему, и поедет к нам, елико же хочем“» (цит. соч., с. 29).
Игорь правил совсем недолго — с 941-го до конца 944 — начала 945 года, когда он был жестоко убит древлянами, разгневанными увеличением дани. Между прочим, Л. Н. Гумилев высказал предположение, что Игорь вынужден был увеличить древлянскую дань из-за необходимости платить большую дань Каганату (назначенную после поражения Олега II в войне с Песахом).
Вместе с тем договор с Византией недвусмысленно свидетельствует, что Игорь имел твердое намерение противостоять хазарам, и его сын Святослав через двадцать лет, в сущности, исполнил завет отца; поэтому негативная «оценка» Игоря, данная Л. Н. Гумилевым (он крайне возмущен Игорем и даже подвергает сомнению — без каких-либо аргументов, — что тот был отцом Святослава! [434] Гумилев Л. Н. Древняя Русь и великая степь… с. 204–205.
) несправедлива; другое дело — его предшественник, Олег II.
Ольга, фактически правившая Русью с конца 944 — начала 945 года от имени своего сына Святослава, которому было в момент гибели отца, по-видимому, не более шести-семи лет, продолжала политику Игоря.
Согласно летописи, где замужество Ольги датировано 903 годом, ей к тому времени было по меньшей мере пятьдесят пять лет (а Святослава она родила в пятидесятилетнем возрасте…). Это, вне всякого сомнения, не соответствует действительности. Сведения самой же летописи об Ольге говорят о ее поистине молодой энергии и, между прочим, даже прямо опровергают представление о ней как о пожилой женщине: ее сватает после гибели мужа древлянский князь Мал, а еще позднее в нее чуть ли не «влюбляется» византийский император Константин Багрянородный, родившийся в 905 году — то есть бывший по меньшей мере на пятнадцать лет моложе ее (если верить летописной дате замужества Ольги).
Сведения летописи о правлении Ольги открываются пространным рассказом о ее жестокой мести древлянам за убийство мужа, наверняка поражавшей воображение и летописцев, и их читателей, — в особенности потому, что ни с чем подобным они в современной им жизни Руси XI–XII веков не сталкивались. Разумеется, те или иные акты мести совершались на Руси и позже, но изощреннейший и в то же время приобретающий характер своего рода монументальности ритуал, изображенный в летописи, как говорится, не имеет никаких аналогов в последующей русской истории. И есть все основания полагать, что этот ритуал мести был продиктован германской — скандинавской — традицией.
Имя Ольги свидетельствуе об ее скандинавском происхождении, хотя имеются и летописные сведения о том, что она была славянкой и первоначально звалась «Прекрасой», но, по мнению (конечно, не лишенному тенденциозности) В. Н. Татищева, Олег, просватавший ее Игорю, «от любви переименовал ее в свое имя Ольга». Однако и Ольга, и ее супруг Игорь уже, без сомнения, «обрусели», что непреложно явствует из имени их сына — Святослав. До него правителей звали Рюрик, Олег, Игорь, а после него — Ярополк, Владимир, Святополк, Ярослав и т. д. (правда, и позднее представители династии Рюриковичей нередко «вспоминали» имена родоначальников и называли своих сыновей Рюриками, Олегами, Игорями). Так что «границей» между еще сохранявшими скандинавское сознание правителями Руси и уже обрусевшими можно считать время рождения Святослава (по всей вероятности, конец 930-х), и есть основания полагать, что Ольга уже была в большей мере русской, чем скандинавкой.
Но в начале ее правления ведущую роль играли воевода Свенельд (это своеобразно доказал выдающийся польский историк Руси Анджей Поппэ [435] Поппэ А. В. Родословная Мстиши Свенельдича. — в сб.: Летописи и хроника. 1973 г. — М., 1974, с. 86.
) и «кормилец» (воспитатель) Святослава Асмуд, то есть скандинавы, которые, по летописи, непосредственно руководят походом возмездия против древлян (впоследствии — о чем ниже — оба они находились в Северной Руси, а в Киеве Ольгу в 968 году спасает от печенегов воевода со славянским именем Претич). И, по-видимому, именно эти скандинавы, а не сама Ольга, продиктовали тот впечатляющий ритуал возмездия древлянам, который позднее никогда уже не имел места на Руси.
Такое умозаключение подтверждается и тем, что Ольга через некоторое время приблизила к себе плененных и превращенных в рабов детей древлянского князя Мала — Малушу и Добрыню. Это вроде бы противоречит рассказу о самой жестокой расправе с древлянами, однако в «Повести временных лет» есть сообщение о том, что после захвата древлянского города Искоростень Ольга «старейшины же града изънима, и прочая люди овых изби, а другая работе предасть», — то есть: «городских же старейшин забрала в плен, а других людей убила, третьих отдала в рабство…».
А. А. Шахматов привел целый ряд аргументов в пользу мнения, что рабыня-ключница Ольги Малуша и ее брат Добрыня были детьми древлянского князя Мала [436] А. А. Шахматов, в частности, предложил убедительное объяснение причины возникновения двух разных летописных именований отца Малуши и Добрыни: Мал и Малк Любчанин: Мал происходил, по преданию, из древлянского города Кольческ — Кьльческ и звался Мал Кьльчанин, но переписчик летописи неправильно разделил слова, получился «Малкъ Льчанин». и второе слово превратил в «Любчанин», поскольку город Любеч был гораздо более известным (см.: Шахматов а. а. разыскания о древнейших летописных сводах. СПб., 1908, с. 375).
. Правда, эта версия оспаривалась, но иначе трудно объяснить «карьеры» этих лиц: как могла рабыня стать супругой Святослава и матерью Владимира, а ее брат — наиболее важным воеводой последнего? Гораздо достовернее, что перед нами в самом деле «прощенные», в конце концов, за вину их отца дети князя Древлянского…
Интервал:
Закладка: