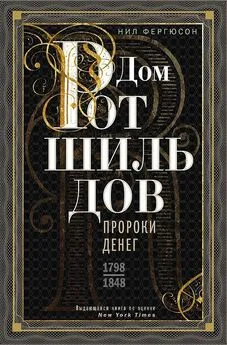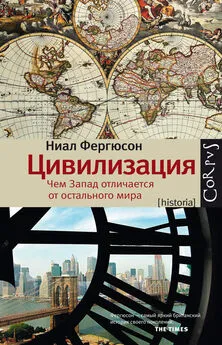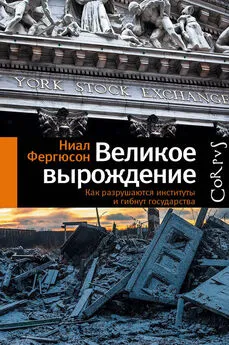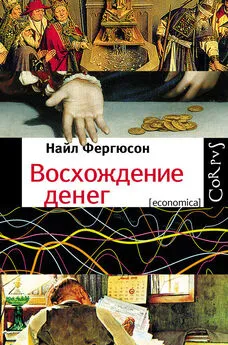Ниал Фергюсон - Империя: чем современный мир обязан Британии
- Название:Империя: чем современный мир обязан Британии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель
- Год:неизвестен
- Город:М.
- ISBN:978-5-271-42661-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ниал Фергюсон - Империя: чем современный мир обязан Британии краткое содержание
Как удалось обитателям дождливого островка в Северной Атлантике построить, а после потерять империю, над которой «не заходило солнце»? Что было целью колониальной политики британцев: грабеж — либо «экспорт свободы и порядка»? Есть ли в XXI веке спрос на империализм? Провокационная книга Ниала Фергюсона повествует о почти трехвековом мировом владычестве англичан и его плодах, сладких и горьких. Одни критики считают «Империю» оправданной попыткой реабилитировать колониализм. Другие шлют Британской империи — и Фергюсону — проклятия.
Империя: чем современный мир обязан Британии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Возможно, дело было и в колониальном сепаратизме. Франклин жаловался, что некогда было “не только уважение, но и привязанность к Британии, к ее законам, к ее обычаям и манерам, даже пристрастие к ее модам, что весьма способствовало торговле. Уроженцев Британии всегда рассматривали с особым отношением, и происхождение человека из старой Англии само по себе вызывало у нас некоторое уважение”. В колонистах, напротив, видели не подданных, а “подданных подданных”: “республиканскую расу, пеструю толпу шотландских, ирландских и иностранных бродяг, потомков каторжников, неблагодарных мятежников и т.д.”, будто они не были “достойны имени англичан и годятся только на то, чтобы быть оскорбляемыми, обузданными, скованными и ограбленными”. Джон Адамс выразил те же чувства — резче. “Мы не будем их неграми, — сердито восклицал он на страницах “Бостон гэзетт”, укрывшись за псевдонимом Хамфри Плагджоггер. — Мы столь же благородны, как и древний английский народ, и должны быть столь же свободными”.
Атмосфера накалялась. Осенью 1774 года в филадельфийском Карпентер-Холле собрался Первый Континентальный конгресс, объединивший самых строптивых депутатов колониальных ассамблей. Прежде всего они решили отвергнуть все налоги британского правительства, а в случае необходимости — драться. Все же известный лозунг Сэмюэля Адамса “Нет налогов без представительства” знаменовал не отказ от британского духа, а скорее его решительное утверждение. Колонисты требовали свободы в той же степени, которой обладали их соотечественники по другую сторону Атлантики. Пока в собственных глазах они были не более чем англичанами, желающими иметь реальное местное самоуправление, а не “виртуальное”, которое им предлагала далекая Палата общин. Другими словами, они хотели, чтобы их ассамблеи были признаны равными Вестминстеру, в рамках преобразованной квазифедеральной империи. Как выразился лорд Мэнсфилд в 1775 году, колонисты “будут иметь такое же отношение к Британии… как Шотландия к Англии до заключения договора об унии”.
Некоторые дальновидные британцы (среди них великий экономист Адам Смит и глостерский декан Джозайя Тукер) видели в переходной империи решение проблемы. Смит предлагал создать империю-федерацию с Вестминстером на вершине, а Тукер предложил прообраз Содружества, в рамках которого империю объединяет только суверенитет монарха. Умеренные американские патриоты вроде Джозефа Галлоуэя тоже искали компромисс. Галлоуэй предложил учредить американский законодательный совет, с членами, избранными колониальными ассамблеями, и под руководством президента, назначенного короной. Лондон отверг все эти варианты. Проблема стала просто вопросом о супрематии парламента. Правительство лорда Норта оказалось в тисках, между двумя одинаково настойчивыми законодательными органами, каждый из которых был убежден в своей правоте. Самое большее, что мог предложить Норт, — чтобы парламент воздержался от своего права на налогообложение (оставляя его за собой), если колониальные законодатели окажутся готовы собирать и вносить необходимый вклад в защиту империи, а также оплачивать собственную систему власти. Этого было мало. Палата лордов отвергла даже предложение Питта-старшего о выводе войск из Бостона. К этому времени, по мнению Бенджамина Франклина, правительственное “притязание на суверенитет над более чем тремя миллионами добродетельных и разумных людей в Америке кажется самой большой из нелепостей, так как оно выказало недостаточно предусмотрительности даже для того, чтобы пасти стадо свиней”. Это был призыв к борьбе.
Прошло чуть более года после первых выстрелов в Лексингтоне, и бунт превратился в настоящую революцию. Четвертого июля 1776 года в зале с аскетическим убранством, в котором обычно заседала Ассамблея Пенсильвании, представителями тринадцати колоний, собравшимися на Второй Континентальный конгресс, была принята Декларация независимости. Всего двумя годами ранее ее главный автор, 33-летний Томас Джефферсон, обращался к королю Георгу III от имени “подданных в Британской Америке”. Теперь заокеанские (“континентальные”) англичане стали американскими “патриотами”. Фактически, большая часть Декларации представляет собой довольно скучный перечень бед, которые навлек на колонистов король, обвиняемый ими в попытке установить “неограниченный деспотизм”. Судя по всему, в редактировании Декларации приняло участие множество людей. Однако сейчас мы помним именно преамбулу Джефферсона:
Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. [49] Пер. О. Жидкова. — Прим. пер.
В наши дни это звучит не более революционно, чем слова “материнство” или, например, “яблочный пирог”. Однако в то время это был опасный вызов не только королевской власти, но и традиционным ценностям иерархического христианского общества. До 1776 года дебаты о будущем колоний в значительной степени велись в терминах, знакомых по британским конституционным препирательствам предыдущего столетия. Однако с публикацией Томасом Пейном в 1776 году памфлета “Здравый смысл” в политический дискурс вошла совершенно новая идея, которая с удивительной быстротой стала преобладающей: антимонархизм с явным республиканским духом. Конечно, республика не была чем-то новым. Она существовала у венецианцев, ганзейских немцев, швейцарцев и голландцев, да и сами англичане предприняли недолгий республиканский эксперимент в 50-х годах XVII века. Но из преамбулы Джефферсона следовало, что идеологической основой американской республики будут принципы Просвещения, естественные права человека — и прежде всего право каждого “самому судить, что обеспечивает или подвергает опасности его свободу”.
Возможно, самым замечательным в Декларации было то, что представители всех тринадцати колоний смогли ее подписать. Всего двадцатью годами ранее разногласия между ними казались столь значительными, что Чарльз Тауншенд нашел “невозможным предположить, что так много различных представителей столь многих областей, разделенных интересами, враждебными из-за ревности и неисправимых предубеждений, когда-либо сумеют договориться о всеобщей безопасности и взаимных расходах”. Даже Бенджамин Франклин признавал, что колонисты имели
различные формы правления, законы, интересы, а некоторые из них различные религиозные убеждения и образ жизни. Их ревность друг к другу была настолько сильной, что хотя был необходим союз колоний для всеобщей безопасности и защиты от врагов и каждая колония признавала, что имеет такую потребность, они не были в состоянии заключить такой союз.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
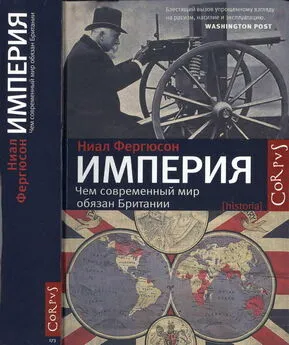
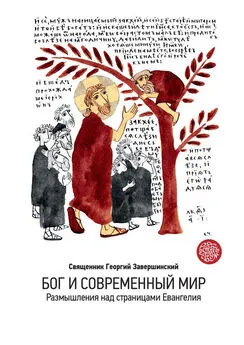
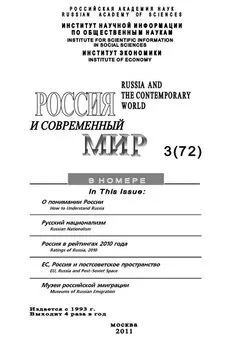
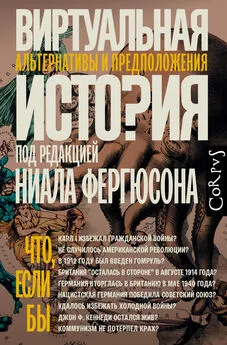
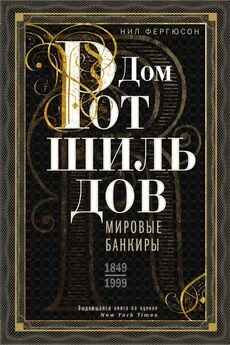
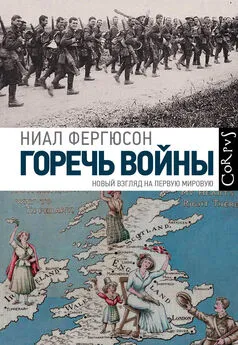
![Ниал Фергюсон - Площадь и башня [Cети и власть от масонов до Facebook]](/books/1070896/nial-fergyuson-plochad-i-bashnya-ceti-i-vlast-ot-ma.webp)