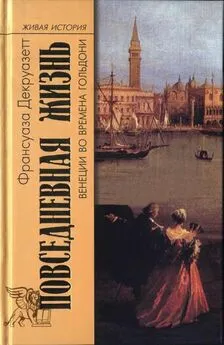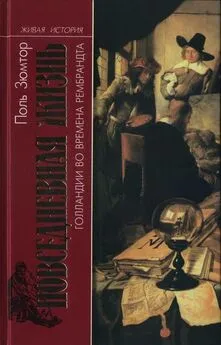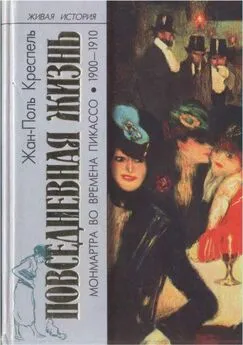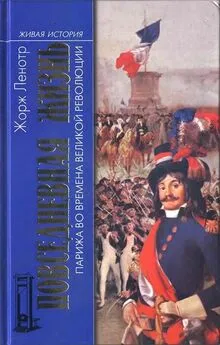Жан Мари Констан - Повседневная жизнь французов во времена Религиозных войн
- Название:Повседневная жизнь французов во времена Религиозных войн
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2005
- Город:М.
- ISBN:5-235-02832-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Мари Констан - Повседневная жизнь французов во времена Религиозных войн краткое содержание
Книга Жана Мари Констана посвящена одному из самых драматических периодов в истории Франции — Религиозным войнам, длившимся почти сорок лет и унесшим тысячи человеческих жизней. Противостояние католиков и гугенотов в этой стране явилось частью общеевропейского процесса, начавшегося в XVI веке и известного под названием Реформации. Анализируя исторические документы, привлекая мемуарную литературу и архивные изыскания современных исследователей, автор показывает, что межконфессиональная рознь, проявления религиозного фанатизма одинаково отвратительны как со стороны господствующей, так и со стороны гонимой религии. Несомненный интерес представляет авторский анализ выборной системы, существовавшей во Франции в те далекие времена.
Повседневная жизнь французов во времена Религиозных войн - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Важной составной частью в системе воззрений на загробный мир было чистилище. Отрицание чистилища, проповедуемое протестантами, могло привести к поистине катастрофическим социальным последствиям, потрясти устои множества семей. Но когда под влиянием реформ, принятых на Тридентском соборе, в XVII и XVIII веках католическая церковь начала делать акцент на личное спасение и постепенно расставаться с моделью, отдававшей предпочтение коллективным структурам, общинное движение стало затухать. На смену ему пришел новый феномен социальной истории Лимузена и Руэрга: эмиграция младших сыновей.
В западной части Центрального региона Франции сторонники Реформации столкнулись с препятствиями как религиозного, так и общественного характера. Между тем в других местах, в Мийо и Вильфранше, все городское население во главе с нотаблями перешло на сторону протестантов. В Мийо кальвинисты заняли дипломатические и стратегические посты. Изгнанные в 1563 году из храмов, они проповедовали под открытым небом, на площадях и сумели убедить людей в истинности своей веры. Так как именно протестанты следили за поддержанием порядка в городе, им удалось добиться благожелательного нейтралитета меньшинства населения, сохранившего приверженность католической вере. Начиная с 1563 года протестантские институты, консистория и консулат (муниципалитет, пребывавший в руках протестантов) функционировали как нормальные городские власти. Слияние муниципальных властей нашло отражение в декларации от 3 июня 1563 года, в которой консулы, советники и еще восемьсот человек просили короля предоставить им помещение, необходимое для проведения собраний. Они утверждали, что с 18 марта в городе их нет ни одного человека, кто бы не перешел на сторону Евангельской церкви. Тридцать два нотабля и одиннадцать бывших священников утверждали, что никто в городе не требовал продолжать служить мессы. Четвертая часть населения покинула Мийо и, как следствие, оставшиеся в городе малочисленные католики стали необычайно покладистыми. Впрочем, по отношению к государству городские власти всегда вели себя лояльно, постоянно выражая свои верноподданнические чувства и утверждая, что речь идет прежде всего о религии, а не о политике. Более того, местные дворяне практически ни во что не вмешивались, в то время как в других городах Руэрга, по словам Николя Леметра, «переход дворян на сторону кальвинистов становился решающим фактором в насаждении кальвинизма».
Действительно, союз дворянства с нотаблями часто являлся главной причиной захвата власти в городе кальвинистами.
Роль дворян-протестантов в период Религиозных войн
Дворяне, поддержавшие реформатов, никогда не были предметом всестороннего исследования. Историки упоминают о них исключительно в контексте событий, их роль оценивается с позиций поднятой исследователями проблематики. Изученный ранее автором косвенный источник, а именно регистры ордена Святого Михаила, выявил разницу между дворянами-роялистами и дворянами-лигистами; аналогичных документов, позволяющих произвести дифференциальный анализ протестантского дворянства, на сегодняшний день нет. Как следствие, приходится опираться на редкие источники, дающие сведения в основном о провинциях. Согласно данным Жанин Гаррисон, среди дворян Керси примерно 36% склонялись к учению реформатов, хотя, как указывает та же исследовательница, значительно больший процент дворян-протестантов отмечен в Сентонже, Гаскони, Жеводане, Лангедоке и Верхнем Провансе. В Нижней Нормандии среди дворян также немало протестантов: в избирательном округе Бай они оставляли 40%. Высокий процент сторонников реформированной церкви среди дворян характерен не для всей Франции. Из дворянских домов Лимузена только двадцать один поддержали Реформацию, что составляет всего 13%. Примерно такой же процент дают бальяжи и сенешальства Вандома, Шато-дю-Луар и Этампа. Во многом показатели зависят от местности (городской или сельской), где проводились подсчеты. В Босе 26% дворян, считая тех, что жили в деревнях, перешли на сторону протестантов, что весьма существенно. Но если взять всех владельцев фьефов (в том числе живущих в городе и постоянно проживающих за пределами провинции), процент протестантов опустится до 12, то есть уменьшится вдвое.
В провинции, в Лимузене, к примеру, среди титулованного дворянства протестантов было значительно больше (один виконт из двух, четыре барона из семи). Более всего дворян, ставших на сторону реформатов, оказалось сконцентрировано в шестнадцати общинах виконтства Лиможского и в четырнадцати пограничных с ним общинах.
Можно привести еще ряд примеров, подтверждающих создание своеобразных заповедных территорий, где полностью воцарилась новая религия. В Босе большая часть протестантских семейств проживала в двух регионах, в частности, по обеим сторонам дороги Париж-Орлеан и в Дюнуа (округ Шатоден), где процент дворян-протестантов приближался к 40%.
В Мене, провинции, практически не затронутой новыми религиозными веяниями, можно было наблюдать аналогичные явления: 35% дворян-протестантов проживали по берегам Соны и на примыкающих к ним землях. Сильное влияние протестантов было в области, расположенной к юго-востоку от Алансона, 8% дворян-протестантов насчитывал округ Верхнего Мена. Мы располагаем данными опроса значительной части Леманского диоцеза, проведенного в 1577 году местным епископом. В каждой общине прелат просил переписать имена дворян и указать их вероисповедание. И хотя результаты нельзя считать полностью достоверными, так как некоторые священники не сочли нужным ответить, а некоторые, опасаясь лишних хлопот, перечислили только дворян-католиков, они тем не менее вполне показательны: в деканстве Линьер-ла-Карель (к югу от Алансона) дворян-протестантов было 23,52%, а в деканствах Лаваль, Эрне, Лассэ и дю Пассэ, расположенных на севере современного департамента Майенн, всего 0,96%.
Теперь попытаемся ответить на вопрос: могла ли элита, будь то нотабли или дворяне, увлечь за собой массы населения? В ряде случаев, если речь идет например о Мийо или о Ла-Рошели, ответ будет положительный, однако оснований для обобщений пока нет. Историк Марк Венар показал, что в провинции Авиньон не было четкого разделения на два лагеря: в Бом-де-Вениз, Робьоне, Горде сеньоры стали протестантами, а население осталось в лоне католической церкви. Такие влиятельные протестантские коммуны, как Камаре, Севиньян, Мерендоль, Нион и Венсобр, развивались самостоятельно, не прибегая ни к помощи, ни к покровительству сеньоров. Во многих городах юга Франции нотабли не обладали сколько-нибудь значительной властью, единственное, что они могли — это предоставлять приют проповедникам или оказывать мелкие услуги протестантскому населению, как, например, делали нотариусы в Куртезоне (округ Оранж). В этом краю протестанты были в меньшинстве (скорее всего, они составляли не более 20% населения), однако среди членов протестантской общины были и знатные дворяне, и магистраты, и состоятельные ремесленники. Солидарность гугенотских семейств была поистине образцовой, распространялась на всех единоверцев, независимо от их социального положения, и в этом была сила сторонников нового учения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: