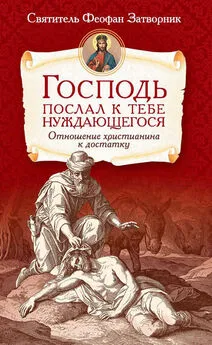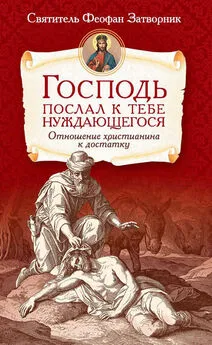Валентин Янин - Я послал тебе бересту
- Название:Я послал тебе бересту
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский университет
- Год:1975
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Янин - Я послал тебе бересту краткое содержание
В этой книге рассказывается об одном из самых замечательных археологических открытий XX века — находке советскими археологами новгородских берестяных грамот.
Я послал тебе бересту - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ниже этой записи, в левой части листа, помещена другая:
«На том ся шлю. Отняли у мене Селиванке да Михеике да Якове (да) Болдькине кон(ь) в три рубле, седло в полтину, вотола в полтора… торокехъ. А то содеяло(сь)… дни межи Горкам (и) и Горками на Бору».
Автор записи рассказывает, как его ограбили Селиванка, Михейка… Яков и Болдыкин, и исчисляет свои убытки: коня ценой в три рубля, седло — в полтину, верхнюю одежду (вотолу) — в полтора рубля и что-то в «тороках» (притороченных к седлу вьюках). Он указывает день (число не сохранилось) и место, где «то содеялось»: между Горками и Горками на Бору. Все три населенных пункта с такими названиями известны писцовым книгам в Дубровенском погосте. Они существуют и сейчас. Близ Дубровны на речке Степеринке стоят неподалеку друг от друга деревни Верхние Горки и Нижние Горки (в писцовых книгах просто Горки и Горки) и между ними, чуть южнее, деревня Бор.
Запись об ограблении прямо связана с поездкой Моисея в Новгород. Судя по ее форме, он намеревается передать дело об ограблении в суд, а местопребыванием суда был Новгород.
Еще две записи расположены в нижней части листа. Левая запись очень сильно пострадала, но ее характер, судя по уцелевшим фрагментам, аналогичен прекрасно сохранившейся записи в правой части листа: «Оу Тимошке в Гуслехь полторе коробьи ржи. Оу Кюра 3 цетверотке ржи. Оу Выевка 3 цетверотки пшенице, 3 цетверотки жита». Как видим, здесь записаны долги. Деревня Гусли, в которой живет, по крайней мере, один должник Тимошка (а может быть и все трое названных здесь должников), известна по писцовым книгам все в том же Дубровенском погосте. Существует она и сейчас.
По всей вероятности, последние две записи также имеют самое прямое отношение к завещанию Моисея. В других дошедших до нашего времени средневековых завещаниях их авторы не только распоряжаются судьбой своих земель, строений и денного имущества, но и информируют своих наследников об имуществе и деньгах, розданных в долги. Подобные завещательные записи встречались и на бересте, мы уже знакомились с некоторыми из них в этой книге. Нужно думать, что как часть завещания заметки Моисея о его должниках предназначены для включения в окончательный его пергаменный текст.
Подобно тому, как в основном тексте завещания Моисей предстал перед нами небогатым землевладельцем, в только что цитированных записях он выглядит и незначительным заимодавцем. Зерно, которое ему задолжали крестьяне, исчислено здесь в коробьях и четвертках. Последняя мера сыпучих тел была мало распространена в Новгороде, но она характерна для Пскова (а Порхов находился у самой границы Псковских земель). Это весьма небольшая единица. Псковская летопись под 1476 годом, к примеру, оценивает четвертку ржи в 4½ деньги. Будучи ограбленным, вполне установленными по имени злоумышленниками, автор записей не имеет возможности сам расправиться с ними и пытается взыскать свои убытки законным порядком, а это также характеризует его как не очень значительного собственника.
Поездка Моисея в Новгород оказалась несчастливой. Черновики своих документов он потерял на глухом пустыре, где его может быть и еще раз ограбили. Но эта поездка сделала его судьбу достоянием истории.
Знакомясь сейчас с результатами открытий 1951–1974 годов, мы хорошо видим, что наши представления о средневековой культуре Новгорода и его истории стали в несколько раз полнее, чем прежде. Этим мы обязаны берестяным грамотам, самое существование которых привычно связывается теперь с Великим Новгородом. Однако берестяные грамоты не были узко новгородским явлением. Они широко употреблялись на Руси и не только в русских землях.
Уже на следующий год после знаменитой находки 26 июля 1951 года берестяная грамота была найдена за 400 километров от Новгорода в древнем Смоленске, где работала экспедиция Московского университета под руководством Даниила Антоновича Авдусина. К сегодняшнему дню эта экспедиция нашла в Смоленске десять берестяных документов. В 1958 году к числу городов, сохранивших в своих недрах древние берестяные тексты, присоединился Псков, где первую грамоту на бересте обнаружила экспедиция Григория Павловича Гроздилова. Сегодня известны уже три псковские находки. В 1959 году берестяную грамоту нашли случайно во время строительных работ в Витебске. Начиная с 1966 года отряд Новгородской археологической экспедиции ведет раскопки, которыми руководит Александр Филиппович Медведев, в одном из новгородских городов — Старой Руссе, в ста километрах к югу от Новгорода. Первая старорусская берестяная грамота найдена уже в 1966 году, а сегодня в берестяном «архиве» этого города уже тринадцать документов.
Познакомимся с тремя самыми интересными из них.
Грамоту № 2 «собирали» на протяжении двух лет. В 1969 году была найдена ее верхняя часть, а в 1970 году — и недостающая нижняя «Приказ от Кузми к сину к своему к Исаку, и к Улияну, и к Тимофию. Соли не купи… и не купя с триця… Зде соли по семи лубов за рубль. А наши хотя давать, а на день ни луба не продать. А просоле зде по пяти гривон бочка».
Автор письма Кузьма сообщает своему сыну Исаку и еще двум своим компаньонам-складникам о торговой конъюнктуре, сложившейся там, куда он с другими жителями Руссы привез на продажу соль. Соль добывалась в Руссе в больших количествах и распространялась оттуда даже за пределы Новгородской земли. Он находится в каком-то месте, где ловят рыбу и солят ее, нуждаясь в его товаре. Однако, по мнению Кузьмы, цену ему за соль дают недостаточно высокую. Ему предлагают продать ее оптом по рублю за семь «лубов». «Луб» или лубяной короб был единицей измерения соли. В розницу продавать выгоднее, но так можно надолго задержаться у рыбаков; за день в розницу удается продать меньше луба, а у Кузьмы, как кажется, еще около тридцати лубов. Попутчики Кузьмы решаются на оптовую сделку, о чем он и сообщает домой и компаньонам, оставшимся в Руссе. Попутно он информирует своих адресатов о ценах на соленую рыбу, которую, вероятно, собирается купить на вырученные деньги: бочка соленой рыбы стоит пять гривен.
Эта грамота относится к XV веку, а в 1971 году обнаружена грамота № 5, на триста лет более ранняя: «У Микуле 5-к (так пишут слово „пяток“) куне. У Стежира 5-к куне. У Городила 5-к куне. У Путяте полъпяте (сначала было написано „десяток куне“, потом эти слова зачеркнули), у Лобыне (это имя тоже оказалось зачеркнутым), у Прибыле 5-к куне, у Стороньке 5-к куне, у Петра 5-к куне». Грамота дает большую серию редких даже для древнейшей Руси имен: Стежир, Городило, Путята, Лобыня, Прибыл, Сторонька.
Грамота № 10, относящаяся к XII веку, найдена в 1973 году: «Сь грамота от Яриль ко Онание. Въ волости твоей толика вода пити в городищяньх. А рушань скорбу про городищяне. Аже хоцьши, ополош дворяна, быша нь пакостил». В грамоте употреблено не встречавшееся ранее образное выражение «толико вода пити», которое надо воспринимать как яркую характеристику нищеты и голода: городищане в волости Анании могут только воду пить, есть им уже нечего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: