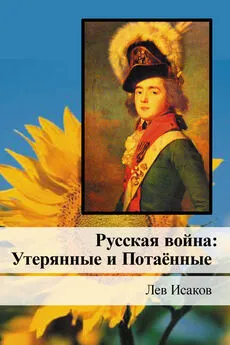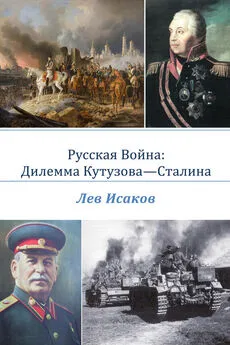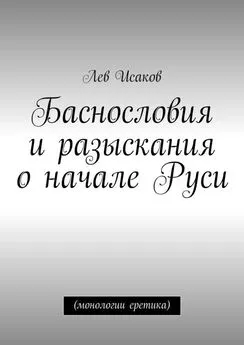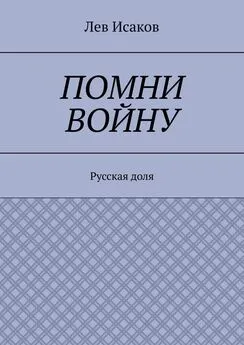Лев Исаков - Русская война: Утерянные и Потаённые
- Название:Русская война: Утерянные и Потаённые
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Издать Книгу»fb41014b-1a84-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Montreal
- ISBN:978-1-77192-092-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Исаков - Русская война: Утерянные и Потаённые краткое содержание
В 2002 г. генерал армии В.Варенников назвал работы автора по военно-политической истории Отечественных войн 1812 и 1941-45 гг., ставшими содержанием книги Русская Война: Дилемма Кутузова-Сталина,"новым словом в историографии". Но главный вывод историка: Россия – Историческое осуществление Евразии в Новое Время являет собой качественно иное пространство исторического, не сводимое ни к какой иной реалии всемирного исторического процесса; рождающий иной тип Исторического Лица, Эпохи, Исторического Действия, повелительно требовал и обращения и обоснования всем богатством отечественного исторического наследия. В 1998-2010 гг. в разных изданиях начинают появляться публикации Л.Исакова, шокирующие научное сообщество НЕВЕРОЯТНОЙ ПЛОДОТВОРНОСТЬЮ РЕЗУЛЬТАТОВ во внешне вполне проработанных темах, или взламывающие давно застывшие проблемы. Их академический вид не мог скрыть их характера: РУССКАЯ ВОЙНА ЗА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ. И как же много там открылось УТЕРЯННОГО И ПОТАЁННОГО…
Русская война: Утерянные и Потаённые - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пушкин не ушел из сознания венценосца, и прорывается наружу в моменты душевного раскрытия, как например при получении известия о гибели ненавистного Лермонтова:
– Жил и умер как собака; вот Пушкин жил плохо, а умер, как подобает христианину…
В этой фразе присутствует какой-то элемент сожаления… О Пушкине? Или о неиспользованных возможностях, которые раскрываются по мере все более широко развертывающейся исторической перспективы? Интересно, что в том же письме к М. П. Николай совершенно не переменяет дворянско-положительной оценки поведения Дантеса на дуэли, но предельно непримирим к Геккерену – «мерзавец» – оценивая дуэль уже особым образом, с точки зрения общественно-политической подоплеки, и гибель Пушкина не только как смерть знаемого лица – как потерю какой-то политической нити, уже чувствуемую, хотя, кажется, не понимаемую. Сравнивая Пушкина и Лермонтова, Николай, кажется, смутно осознает, что в чем-то он окончательно разошелся, что ознаменовано Вторым, и что можно было утвердить с Первым. Что-то неуловимо важное, витавшее в воздухе в 1826–1837 гг., рассеялось…
Вот любопытно, от кого и от чего так истерично защищалась власть в дни похорон Пушкина?
От дворян-карбонариев? – Они в Сибири…
От Виссариона Белинского? – Он еще гегельянствует «все действительное – разумно».
От Герцена? – Он усердно просиживает штаны в Московском Университете.
Да от того гула, что вдруг раздался, свидетельствуя о расколе, расхождении власти и культуры; о грядущем возмездии за таковой, что сверкнет первой молнией строк через 5 дней:
Погиб поэт,
Невольник чести
Пал, оклеветанный молвой
. . .
. . .
И вы не смоете
Всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь.
За что хватался государь Николай Павлович, набрасываясь на новый голос, что ловил? Ведь по смыслу-то стихотвореньице было достаточно пережевываемо: при прочей эквилибристике, ну, там «сению Закона» – но не трона!; «наместники разврата» – а где их нет, в Англии? Франции? – все ведь кончается «божьим судом».
А не так ли в Писании?
А не на то ли, что отныне жало мудрыя змеи обратится на власть, и вновь и вновь избиваемые и разбиваемые «петрашевцы», «землевольцы», «народовольцы», «черно-передельцы» снова и снова будут возрождаться по слову Тургенева, Толстого, Чехова, Горького; в красках Перова, Репина, Сурикова, Серова; в звуках Бородина, Мусоргского, Скрябина; октаве Шаляпина.
Ее ловили, улавливают теперь – поздно, улетела!
А Пушкин? Что он нёс и не явил власти, или она не приняла, через эти 10 лет сентября 1826 – января 1837 года?
К началу этого периода Пушкин подходит вполне сложившимся глубоким политическим мыслителем; после «Бориса Годунова», коснувшись реально-исторического, изжившим его европейский перепев как и Карамзинскую тягучую сентиментальщину, во всяком случае осознавшим наличие и иной правды, т. е. несводимой ни к какому частно-честному мнению истины, той, что лишь проступает в разноречиях, не является в них: Правд много – Истина одна; вполне чувствует себя общественным, а не единственно литературным деятелем – в жизни и творчестве при всех «…иди свободно…», «…добру и злу внимая равнодушно…» это было всегда: политический нерв в нем сидит неискоренимо. И власть, судя по оценке Николая Павловича 1826 года «…умнейший человек России…», это уже знает, ценит, только никак не может примериться – слишком большая величина, это ведь не плата построчно за статейки и помесячно за доносы Фаддею Булгарину. Любопытно, что в давнишнем эпизоде после триумфа на выпускном экзамене 1814 года, когда он впервые потряс российский небосклон своими «Воспоминаниями в Царском Селе», власть прямо подталкивала эту новую величину в политическую публичность когда устами Александра I, политического практика, рекомендовала ему заняться прозой и восстал Гаврила Романович Державин:
– Оставьте его поэтом!
Браво!
Вполне согласен с восхищением Леонида Гроссмана величественным старцем – но не могу не заметить, что в русском сознании тот отложился только поэтом, литератором, автором «Фелицы», «Водопада»; экземпляром Екатерининского века, – не постигающей интеллигенцией «Арапа Петра Великого» или «Бориса Годунова».
В 1833 году ситуация повторяется: убедившись после 1831 года, что в стратегическом плане различий между ними нет Власть– Николай дает добро на издание Пушкиным ежедневной литературно-общественной газеты: все же пробавление в качестве публичности грязненькой «Северной пчелой», куда почтенные люди брезгуют являться, неудобоваримо… Не состоялось: Пушкин– Культура навязывал новые непривычные отношения Силы и Мнения, усложнял жизнь, порождал новые тревоги – ну их к бесу… Бурно радуются только Фаддей Булгарин – не будет конкурента, и… Василий Андреевич Жуковский – солнце русской поэзии не утонет в грязной земле ножками!
В 1836 году не газета, а журнал, пока еще незнаменитый «Современник», начинает издаваться. Аринштейны-Абрамовичи это похваляют – свободное предпринимательство, свобода духа продаваться построчно… Но вот что любопытно: «Современник» совершенно не следует своим состоявшимся, успешно-продажным предшественникам, блестяще окупившимся журналам Булгарина-Марлинского, а до того И. А. Крылова, Д. Ф. Фонвизина, т. е. литературно-художественным, на потребу небесполезного заполнения случившегося досуга, который бывает не только у барина – у мужика; в котором оказался столь сподручен незабвенный Александр Николаевич Бестужев-Марлинский, высокий предшественник будущих «писателей» с Никольского моста, еще не родившего своих шедевров «Страшный колдун или Ужасный чародей»…, и до номерных «Банда-1», «Банда-2», «Банда-3»…
Что же предлагает своим читателям г-н Пушкин? Статью о Джоне Теннере; обозрение политэкономии г-д Смита и Рикардо; о новых паровых машинах, производимых на заводах Модеслея (Лондон); о новых способах строительства комфортабельных дорог, называемых макадамовыми – естественно на фоне широкого обозрения литературно-словесного моря: Шекспир, Байрон, Альфред де Мюссе, Констан, Гюго, Баратынский, Катенин, Крылов, Шаховской, Гоголь; но в особом освещении, лучше всего выраженном заглавием его редакторского предуведомления «В зрелой словесности приходит время».
Джон Теннер – о жизни европейца среди ирокезов… это важно, у нас тоже есть Русская Америка; Смит и Рикардо в эпоху становления фабричной промышленности – это насущно…;…паровые машины выходят на дороги, вплывают в моря – это необходимо…;…а дороги? Две напасти у России: дураки (неустранимая) и дороги… – это все важно, государственно важно, но интересно ли г-ну Обломову с Гороховой улицы, прямое покушение на его покой и прекраснодушное безделье?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: