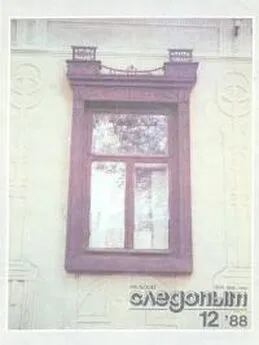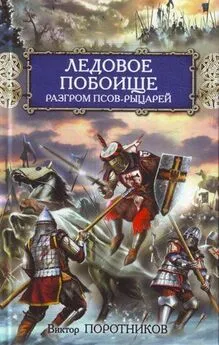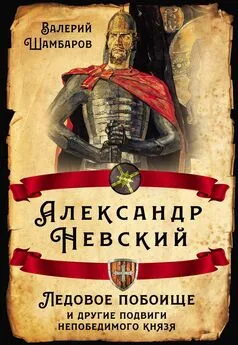Алексей Бычков - Ледовое побоище и другие «мифы» русской истории
- Название:Ледовое побоище и другие «мифы» русской истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Олимп
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-050850-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Бычков - Ледовое побоище и другие «мифы» русской истории краткое содержание
Величие нашего народа — в легендах! В России до XVI века почти все общество оставалось безграмотным. Летописи появились лишь в конце XIV века, да и то слабо отражающие историческую деятельность. Это национальная традиция: нас мало заботит, как все было на самом деле. Гораздо более ценно романтическое видение нашей (обязательно древней и обязательно великой) истории.
И хотя автор этой книги приводит реальные документы и факты, подтверждающие, что никакого нашествия Золотой Орды не было, Ледовое побоище — всего лишь миф, Иван Сусанин никогда не встречался с поляками, а Фанни Каплан и пальцем не тронула Ленина, многие все равно воскликнут: «Не верю!». Легенда жила, живет и будет жить!
Ледовое побоище и другие «мифы» русской истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В «Повести о разорении Рязани Батыем» бросается в глаза ряд странностей, которые весьма настораживают. Автор забывает имена рязанских князей, их родственные связи. Так, названные в числе павших в битве с татарами Давид Муромский и Всеволод Пронский скончались до татаро-монгольского нашествия. Не дожил до разорения Рязани и Михаил Всеволодович, которому, согласно «Повести…», пришлось восстанавливать Пронск после Батыя. Олег Ингоревич Красный, который, кстати, был не братом, а племянником рязанского князя Юрия, не пал от татарских ножей. Страшная гибель, приписанная ему автором «Повести…», ждала спустя 33 года его сына Романа. Епископ Рязанский также не погиб в осажденном городе, а успел выехать из него незадолго до прихода татар. В качестве предков рязанских князей названы Святослав Ольгович и Игорь Святославич, в действительности не являвшиеся родоначальниками рязанского княжеского дома. Сам титул Юрия Ингоревича «великий князь Рязанский» появился лишь в последней четверти XIV века. Наконец, определение дружины Евпатия Коловрата, которая насчитывала 1700 человек, как небольшой не соответствует реалиям домонгольской и удельной Руси.
Все эти несуразности можно понять, помня, что «Повесть о разорении Рязани Батыем» была написана после 1526 года.
В «Повести…» имеются разные наслоения: это мотивы религиозные и мотивы рыцарские.
Перед тем как Юрий Ингоревич начал «собирать воинство свое», он предается «великому плачу», обращается с молитвами к Богу, произносит псалмы, словом, проделывает весь ритуал, который в таких случаях духовные писатели приписывают своим героям.
Воодушевляя своих дружинников, Юрий призывает их постоять «за святые Божьи церкви и за веру христианскую», «смертию живота (т. е. загробную жизнь) купити» и т. д.
Неоднократно подчеркивается, что все беды, обрушившиеся на Русскую землю, посланы богом за грехи. В полном противоречии с общим духом «Повести…» высказывается мысль об обреченности рязанской дружины, несмотря на все ее мужество, ибо «против гнева божьего кто устоит!» Позднейшим переписчиком сделана вставка, что вместе с великой княгиней Агриппиной мученически погибли епископ и «священнический чин».
С другой стороны, в «Повести…» нашла отражение идеология «господства рязанского», «удальцов и резвецов рязанских», т. е. рыцарские умонастроения. Только при описании осады Рязани рассказывается о мужестве и стойкости обыкновенных горожан, во всех же остальных случаях храбрость проявляет исключительно княжеская дружина. Именно к ней обращается великий князь Юрий Ингоревич, называя ее: «братия моя», «братия моя милая и дружина ласковая», «узорочье и воспитание рязанское». Особенно много рыцарских мотивов в эпизоде с Евпатием Коловратом. По тексту некоторых списков он и погнался за Батыем из чисто рыцарских побуждений, «хотя испить смертную чашу со двоими государями равно». С чисто рыцарским уважением относятся татары к своим храбрым противникам, не переставая «дивиться храбрости и крепости и мужеству рязанскому». Из уважения к храбрости Евпатия Батый приказывает отдать его тело оставшейся Евпатиевой дружине и отпустить на волю пленных, не причинив им никакого зла.
Надо, однако, подчеркнуть, что почти все отмеченные моменты религиозного и рыцарского порядка (за исключением, пожалуй, эпизода с Евпатием Коловратом) носят характер искусственной и механической пристройки, нисколько не нарушая и не колебля общей идейной направленности этого произведения.
Хотя Юрий Ингоревич прилагает все силы, чтобы отвратить страшную беду от Рязанской земли и направляет послов к Батыю, он, однако, не трепещет перед ханом, не стремится договориться с ним во что бы то ни стало, хотя бы ценой унижения и пресмыкательства. Также ведет себя в стане Батыя князь Федор Юрьевич, предпочитающий смерть позору. Когда посольство провалилось и Батый в полной мере обнаруживает свое коварство, князья Рязанские не боятся вступить в бой с превосходящими силами неприятеля. Юрий Ингоревич предпочитает погибнуть, чем быть «в поганой воли» [54].
Все русские люди до конца выполняют свой долг и в плен попадают только изнемогши от «великих ран». Но и они предпочитают пытки и смерть всякому соглашению и примирению с недругом. Удальцы Евпатия, нисколько не стесняясь «сильна царя», с великолепной иронией говорят Батыю, что они посланы его «почтить и честно проводить».
По летописным данным, князь Рязанский Олег Игоревич был взят Батыем в плен и вернулся в Рязань спустя 14 лет, сделавшись после Ингваря князем Рязанским. Но в «Повести…» он держит себя так же безупречно, как и остальные пленные. Его зверски истязают, разрезают ножом на части, но он не предается «прелести» Батыя и высоко держит знамя своей более высокой культуры, «укоряя» Батыя и «нарекая» его безбожным царем. Так в представлении народа должны были себя держать князья…
Повесть о разорении Рязани Батыем подчеркивает вероломство татар и подробно описывает ужасы татарского нашествия, не в пример северо-восточным летописным сводам.
Своей гибелью Евпатий Коловрат не ослабляет сил родной земли. Напротив, его подвиг, продиктованный непримиримостью к врагу и чувством мести, наводит страх на татар и служит как бы предостережением о неиссякаемой силе Руси, где и мертвые могут воскреснуть, чтобы биться с недругом. Евпатий Коловрат и его дружинники как бы заслоняют своими трупами Рязанскую землю и дают возможность вернувшемуся туда князю Ингварю обновить разоренный край, собирать людей и «утешить пришельцев».
Татаро-монгольское нашествие на Русь
Согласно официальной версии первый рейд монгольских отрядов на Русь произошел в 1222—! 223 гг. «Западные земли» рассматривались монголами как территория потенциального расширения своих владений. Второй сын и наследник Джучи — Бату — был назначен главнокомандующим войсками на Западе. Было, однако, очевидно, что сил Бату недостаточно для выполнения этой задачи. При распределении монгольских войск между своим сыновьям Чингисхан отдал под командование Джучи всего 4000 монгольских воинов [55]. И Бату получил властные полномочия для создания новых армейских подразделений из туркменских племен и иных тюрков, что проживали в его улусе. Лояльность тюрков нуждалась в проверке, и в любом случае, даже усиленная тюрками, региональная армия Бату не была достаточно сильной для завоевания Запада. Поэтому Угэдэй приказал, чтобы все улусы Монгольской империи посылали свои войска на помощь Бату. Западная кампания, таким образом, стала общемонгольским делом.
Бату стал во главе совета князей, представлявших всех потомков Чингисхана. Среди них выделялись сыновья Угэдэя — Гуюк и Кадан, сын Толуя — Мункэ, а также Байдар и Бури — соответственно, сын и внук Чагатая. Каждый привел с собой значительный контингент отборных монгольских войск. В то время как Бату являлся формальным главнокомандующим, один из наилучших и наиболее опытных монгольских военачальников Субэдэй был назначен, в современном понимании, начальником штаба. Субэдэй хорошо знал русский театр военных действий по опыту своих прежних рейдов на Русь в 1222–1223 гг. Несмотря на то, что территории, подлежащие контролю и гарнизонному обеспечению, были огромны, в ходе вторжения сила полевой армии Бату составляла не более пятидесяти тысяч человек.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

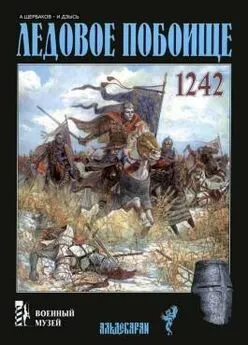



![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)