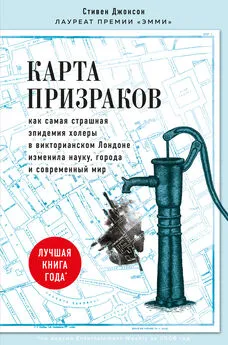Дмитрий Шерих - Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры
- Название:Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-05355-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Шерих - Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры краткое содержание
Холера и сегодня – смертоносная болезнь, но в российских столицах, Петербурге и Москве, эта «азиатская гостья» не появлялась уже очень давно. А когда-то ее приход полностью менял ритм жизни горожан, их повседневный быт: они обряжались в набрюшники, старались не выходить на улицу натощак, обтирались оливковым маслом и принимали всякие другие меры, дабы не попасть в быстро растущие скорбные списки. Везло не всем: семь петербургских холерных эпидемий унесли жизнь семидесяти тысяч горожан; в числе жертв недуга оказались великие Карл Иванович Росси и Петр Ильич Чайковский.
Обо всем этом и идет речь в новой книге известного журналиста и историка, лауреата Анциферовской премии Дмитрия Шериха. Перед читателем пройдет вереница имен тех, кто погиб, кто выжил, и тех, кто с эпидемиями сражался; в книге представлены самые значимые холерные адреса Петербурга, приведены многочисленные свидетельства мемуаристов.
Агонизирующая столица. Как Петербург противостоял семи страшнейшим эпидемиям холеры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По версии Каратыгина, именно молодой кучер и стал «одним из главных действующих лиц» в последовавших событиях. Александр Васильевич Никитенко записал 22 июня в дневнике, что «в час ночи меня разбудили с известием, что на Сенной площади настоящий бунт», а вскорости стало известно, «что войска и артиллерия держат в осаде Сенную площадь, но что народ уже успел разнести один лазарет и убить нескольких лекарей».
Красочно и эмоционально описал эти события Александр Христофорович Бенкендорф; свидетелем происходившего он не был, но после немало времени отдал следствию над виновниками совершенных преступлений: «Чернь столпилась на Сенной площади и, посреди многих других бесчинств, бросилась с яростью рассвирепевшего зверя на дом, в котором была устроена временная больница. Все этажи в одну минуту наполнились этими бешеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больных, приколотили до полусмерти больничную прислугу и самым бесчеловечным образом умертвили нескольких врачей. Полицейские чины, со всех сторон теснимые, попрятались или ходили между толпами переодетыми, не смея употребить своей власти».
Страшные были часы, что и говорить. В ходе разгрома больницы убили ее главного врача Земана; были и другие жертвы. Достоверно известно, что спастись в тот день удалось лишь 72-летнему доктору медицины Георгу Магнусу фон Молитору – возможно, бунтовщики пощадили его в силу возраста…
Бунт с кровопролитием стал совершенной неожиданностью для городской власти. А еще неожиданней оказалось то, что по совершении этих бесчинств народ не только не разбежался с Сенной площади, но и продолжал на ней собираться, задерживая приближавшиеся больничные кареты. Беспорядки начались и в других частях города: разгромили временную холерную больницу в доме Греко-униатской церкви на 12-й линии В.О. (ныне 12-я линия, 29–31, угол Среднего пр., 53), народ «изломал, побросал в реки встречавшиеся ему экипажи, перевозившие больных, разбил полицейские будки, избил, где было можно, не только низших полицейских служителей, но многих офицеров, разогнал, запер других в погреба, лавки, подвалы; отыскивал везде квартиры докторов, уничтожил, выбросил на улицу все имущество старшего полицейского врача (носившего польскую фамилию)».
Последняя цитата – из доклада столичного обер-полицеймейстера Сергея Александровича Кокошкина холерному комитету. Александр Павлович Башуцкий позже вспоминал, как очередное заседание этого комитета, проходившее ранним утром 23 июня в доме военного генерал-губернатора столицы Петра Кирилловича Эссена, прервалось визитом Кокошкина. Обрисовав ситуацию в целом, тому пришлось признать, что «полиции не существует, войска нет (оно все было в лагере), в городе оставалось лишь несколько слабых батальонов для гарнизонной службы, но и те именно в это время были разбиты на мелкие команды, рассеянные по всему пространству столицы; одни шли вступать в караулы, другие, сменившись, возвращались домой».
По оценке Кокошкина, на улицы тогда вышло до трети всего населения столицы. Велики глаза у страха, что тут скажешь, но масштаб народных волнений и вправду оказался серьезен.
Холерный комитет и генерал-губернатора Эссена пугающие новости застали врасплох. Император отсутствовал в столице, ждать его указаний из Петергофа было долго, пришлось поневоле взяться за дело самим. Петербургскому коменданту отправили приказ направлять все имеющиеся караулы на Сенную площадь; «военный же генерал-губернатор сел в коляску с дежурным адъютантом своим, и мы поскакали с Большой Морской по Невскому проспекту на означенную площадь, главную сцену действия, в намерении уговорить народ».
Дежурным адъютантом в тот день являлся как раз Александр Павлович Башуцкий и воспоминания его, пусть и окрашенные некоторой излишней литературностью, ярко обрисовывают картину происходящего. Полностью читатель сможет прочесть мемуары А. П. Башуцкого в конце книги, здесь же – ключевые эпизоды.
«Дня этого я не забуду. Народ стоял с обеих сторон нашего пути шпалерами, все гуще и теснее, чем ближе к Сенной площади. Закрыв глаза, можно бы было подумать, что на улице нет живой души. Ни оружия, ни палки; безмолвно, спокойно, с видом холодной решимости и с выражением странного любопытства, народ стоял, как будто собравшись на какое-нибудь зрелище. По мере нашего движения вперед он молча оставлял свои места, сходился с обеих сторон на середину, окружал коляску тучею, которая все росла, запружала улицу и с трудом в ней двигалась, как поршень в цилиндре. Так втащились мы, будто похоронный поезд, в устье площади, залитой низшим населением столицы, и остановились по невозможности двинуться далее. То же безмолвие, неподвижность и сдержанность. И здесь, как там, ни одна шапка на голове не заломалась. На противоположном конце, в углу, виднелась, с выбитыми стеклами, взятая штурмом злосчастная больница, на лестнице и в палатах которой еще лежали кровавые жертвы безумной расправы».
Петр Кириллович Эссен, по единодушному свидетельству всех, кто его знал, не был бойцом – но отступать было некуда. Встав в коляске, он обратился к народу с вопросом: «Зачем вы тут? Что вам надобно?».
«Безмолвие нарушилось. Сперва гул, потом шум, потом тысячеголосый крик заменили мертвую до этой минуты тишину; не было возможности ни разобрать, ни унять бури звуков. Вскоре без буйства еще, но уже и без всякой уважительности, сначала будто бы из желания объясниться внятнее, стоявшие около самого экипажа и продиравшиеся к нему ораторы взяли коляску приступом; влезли на ступицы и ободья колес, на крылья, подножки, запятки, козлы, цеплялись за бока, поднимались на руках и высовывали вперед раскрасневшиеся от духоты и оживления лица. Мы очутились в небольшом пространстве, окруженные сотнями разнообразных физиономий, нос к носу. „Нет холеры! Какая там холера! Морят да разоряют только!.. Прочь ее!.. Не надо нам холеры!.. Выгнать за Московскую заставу!.. Не хотим ее знать!.. Ну ее! Чтоб не было!.. Выгнать!.. Говори, что нет холеры!.. Так-таки скажи народу прямо, что холеры нет!.. Скажи сам!.. Не хотим ее!.. Выгнать сейчас холеру из города!.. Скажи, что холеры нет!..“ Такие возгласы повторялись на тысячи ладов спершими нас говорунами, а от них перенимались морем народа».
Из возгласов собравшихся, вспоминает Александр Павлович Башуцкий, выяснилась и еще одна причина волнений. Как уже знает читатель, торговцев разорял карантин – но попутно разоряло и стремление горожан соблюдать рекомендации врачей и МВД, отказавшись от употребления в пищу всего сырого, жирного и тяжелого для желудка. Торговцы фруктами жаловались Эссену на то, что «ворохи ягод повыкидаем; персиков, слив, разного фрукта погноили на большие тысячи», а харчевники и трактирщики – что провизия пропадает, потому что соленого и копченого не едят…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
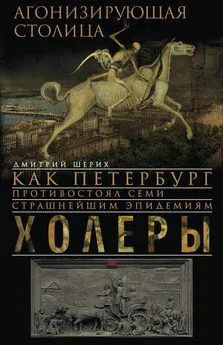

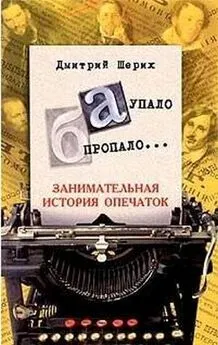

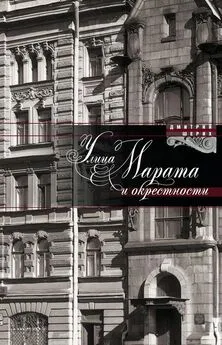
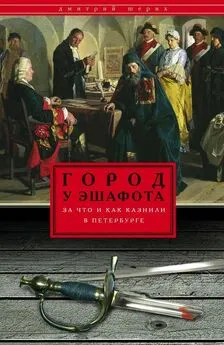


![Стивен Джонсон - Карта призраков [Как самая страшная эпидемия холеры в викторианском Лондоне изменила науку, города и современный мир] [litres]](/books/1065951/stiven-dzhonson-karta-prizrakov-kak-samaya-strashnaya.webp)
![Дмитрий Билик - Вторая столица [СИ]](/books/1088931/dmitrij-bilik-vtoraya-stolica-si.webp)