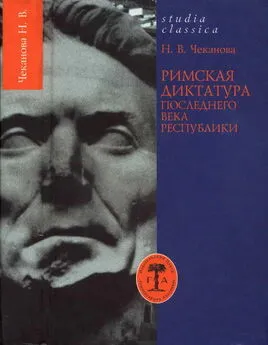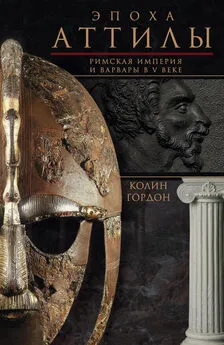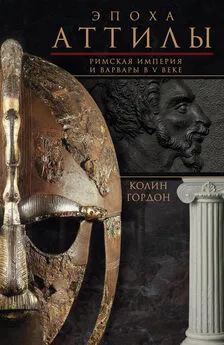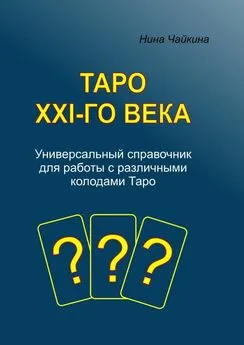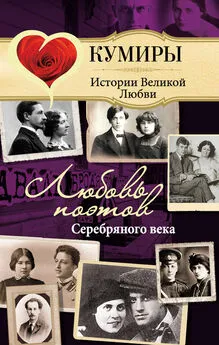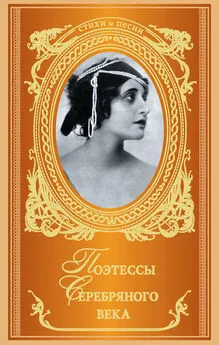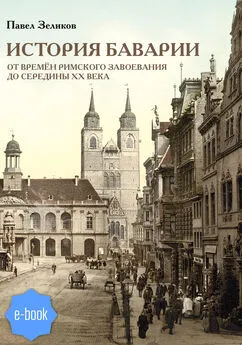Нина Чеканова - Римская диктатура последнего века Республики
- Название:Римская диктатура последнего века Республики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИЦ «Гуманитарная Академия»
- Год:2005
- Город:СПб
- ISBN:5-93762-046-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Чеканова - Римская диктатура последнего века Республики краткое содержание
Монография Н. В. Чекановой представляет собой фундаментальное научное исследование, посвященное одной из самых важных тем истории древнего Рима — проблеме перехода римского государства от республики к империи. Подробный разбор деятельности лидеров, пролагавших пути к новому императорскому режиму — Суллы, Юлия Цезаря, Октавиана Августа, — автор удачно сочетает с воссозданием римской общественной жизни в эпоху Гражданских войн, мыслей и чувствований различных социальных групп, тех духовных ценностей, которые исповедовали последние. Подвергнув тщательному анализу свидетельства самых разнообразных античных источников, а также гипотезы предшественников, Н. В. Чеканова приходит к выводу, что процесс перехода от республики к империи представлял собой не революцию и не некую «разовую» реформу, а глубокую и всеобъемлющую социокультурную реформацию древнеримского общества.
Книга адресована как специалистам-историкам, так и всем интересующимся античной историей.
Римская диктатура последнего века Республики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В исследовательской литературе в связи с проблемой римского плебса давно обсуждается вопрос о демократизме римской государственной системы. В общих чертах суть дискуссии представлена Н. Н. Трухиной. Сопоставляя точку зрения Т. Моммзена о доступности власти для любого гражданина и М. Гельцера об аристократическом характере Римской республики, сама Н. Н. Трухина скорее опровергает тезис о демократическом характере римской республиканской системы, хотя и оставляет проблему открытой {113} . Похоже, что в последнее время получает развитие точка зрения М. Гельцера, правда, не в столь полной мере. Устанавливается родственная связь большинства «демократических» реформаторов с влиятельными сенаторскими фамилиями {114} . Пересматривается вопрос о доле участия плебеев в римской магистратуре {115} и социально-политическое значение плебейского трибуната {116} . Автор одной из последних работ, посвященных этой проблеме, Г. Морисен ставит под вопрос наличие «демократии» в Риме. Он, анализируя функции contio, законодательство, состав народного собрания и т. п., приходит к выводам, что единое понятие populus Romanus существовало лишь как конституционная концепция, форум был «не большим центром народной жизни», а «миром элиты», а римский народ — это политически бездеятельная и безынициативная толпа {117} .
У нас есть достаточно выразительное свидетельство Саллюстия о социально-политической ситуации, сложившейся в Риме к началу I в. (Sail. Hist, amplior. frr., Lep., 37—39). По мнению античного автора, для римских граждан альтернатива свободы или рабства, демократизма или авторитаризма перестала быть актуальной: римский гражданин мог «быть рабом или повелевать, испытывать страх или внушать его — semiundum aut imperitandum, habendus metus est aut faciundus».
Из числа римского гражданства была исключена огромная масса населения — рабы, до начала I в. италийские союзники и провинциалы. В количественном отношении они составляли большинство населения, объединенного imperium Romanum. Точное количество рабов в Риме неизвестно. Но, судя по данным источников, в конце III — начале II в. оно было очень велико {118} . В 209 г. из Тарента поступило 30 тыс. (Liv., XXVII, 16, 7), в 204 г. — 8 тыс. из Африки (Liv., XXIX, 29, 3), в 177 г. — около 5,5 тыс. из Истрии (Liv., XLI, 11, 8), в 174 г. — 80 тыс. вместе с убитыми из Сардинии (Liv., XLI, 28, 8), в 167 г. — 150 тыс. из Эпира (Polyb., XXX, 15; Liv., XLV, 34, 5), в 146 г. — 50 тыс. из Карфагена (Арр. Lib., 130). Таким образом, только в результате 2-й и 3-й Пунических войн в Риме оказалось около 300 тыс. рабов, что составило приблизительно 1/3 гражданского населения всей Италии. Процесс этот продолжался и позднее. По подсчетам К. Криста, со времени Ганнибала до Августа число рабов в Италии увеличилось от 600 тыс. до 3 млн {119} .
В исследовательской литературе проблемы, связанные с определением социального статуса рабов, решаются очень неоднозначно. В одних исследованиях рабы определены как класс, в других — класс-сословие, в третьих — негражданская страта. В нашей работе мы не будем касаться этого специфического вопроса. Нас интересует более всего один аспект — насколько рабы были интегрированы в римское общество и какую роль они играли в процессе интеграции.
Римские рабы не были гомогенной группой. Они имели самое различное экономическое положение, но их правовой статус маскировал эту разницу: раб был лишен экономических, социальных, политических прав, всего, что определяет личность. Таким образом, формально огромные массы рабов не были интегрированы в римско-италийскую социальную структуру {120} . Но практически рабство самым непосредственным образом касалось социально-экономической и даже политической жизни Рима и, на наш взгляд, отрицательно влияло на эволюцию римского общества. Рабовладение было не просто одним из общественно-политических институтов, оно формировало среду, в которой проходила жизнь каждого римлянина. Оно вырабатывало авторитарный стиль управления хозяйством, общественных и семейных отношений, в конечном счете развращало общественную психологию и способствовало формированию идеологии политического абсолютизма.
Римская социальная практика предполагала способ общественной интеграции рабов — прежде всего через систему вольноотпущенничества. Однако она была очень ограниченной. Во-первых, вольноотпущенники не получали полных гражданских прав; во-вторых, находились в зависимости от своего патрона — бывшего хозяина (вплоть до времени Августа государство не вмешивалось в эти отношения). Тем не менее статус вольноотпущенника был чрезвычайно притягательным для рабов. Он открывал им путь в римское гражданское общество. Как правило, отпущенники становились дельцами, торговцами или ростовщиками. Однако многие предпочитали приобрести землю, добиться богатства земледельческим трудом, что позднее могло обеспечить высокое общественное положение их сыновьям. В начале I в. в результате военной реформы, связанной с именем Гая Мария, для вольноотпущенников стала доступна военная служба (Liv. Per., 74). Это также открывало им путь к полноценному статусу римского гражданина.
Между рабством и свободой кроме вольноотпущенничества был еще целый спектр состояний с различным социальным статусом и объемом прав. Это италийские союзники и провинциалы — бесправные перед коллективом римских граждан и каждым римлянином в отдельности. При довольно активных деловых и политических контактах этой группы населения с Римом особенно актуальным становилось достижение ею прав римского гражданства. Вслед за П. А. Брантом и Г. Альфёльди {121} мы хотим подчеркнуть, что выдвигаемое италиками и отчасти провинциалами требование равных гражданских прав и развивавшаяся на этом основании борьба не имели социально-политического характера. Суть конфликта составляла в удовлетворении сословных интересов и уравнении сословных возможностей. Таким образом, борьба италиков и провинциалов была отражением противостояния римской общины и формировавшегося территориального государства, выражала развитие державного принципа.
Проблема была обозначена Гракхами и позднее Ливием Друзом Младшим, но до начала I в. интеграция жителей Италии и провинций в римское общество мало заметна. Важные результаты в решении этой проблемы были достигнуты в ходе Союзнической войны, а с 84 г. по постановлению сената все италики, получившие права римского гражданства, стали распределяться по всем римским трибам (Liv. Per., 84). «Новые граждане» стремились быть римлянами во всех отношениях. Это способствовало унификации образа жизни на всей территории формировавшейся римской империи, хотя в провинциях и сохранялось своеобразие.
Таким образом, с конца III в. сложились условия и постепенно активизировалась территориальная и социальная мобильность римского — италийского населения. Это вызвало важнейшие социокультурные трансформации. Римское гражданство оказалось раздробленным. Спектр сословий и статусов с разными интересами, разным объемом прав и обязанностей, в разной степени интегрированных в римское общество, расширился. В свою очередь, эти явления привели к ослаблению принципов римского государственно-политического республиканизма и демократизма, усилению значения политического лидерства и в конечном итоге стали основанием для дезорганизации римской республиканской системы и перехода от республики к империи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: