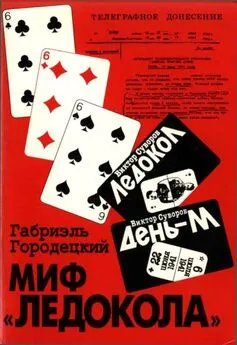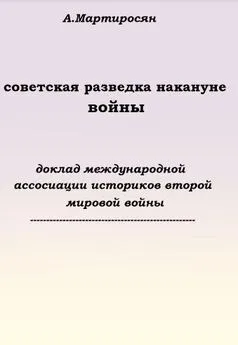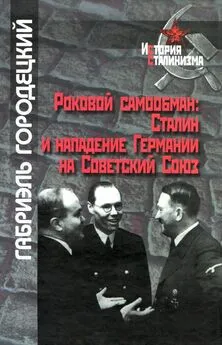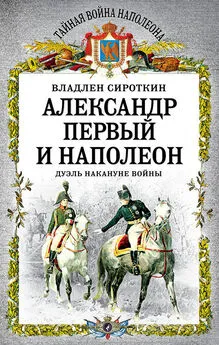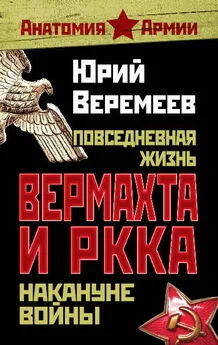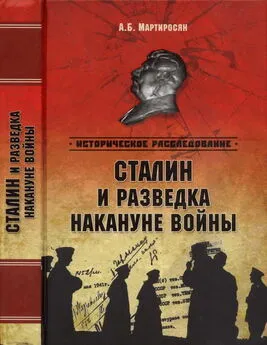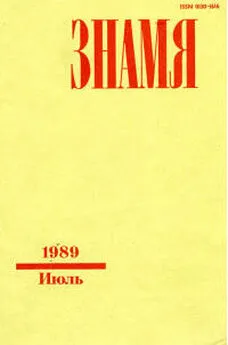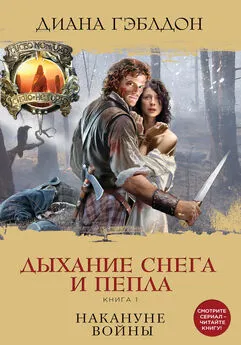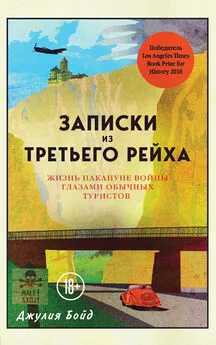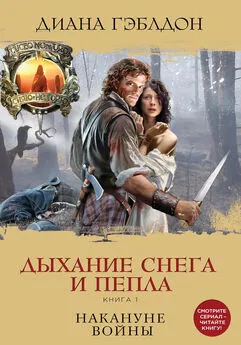Габриэль Городецкий - Миф «Ледокола»: Накануне войны
- Название:Миф «Ледокола»: Накануне войны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс-Академия
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-85864-065-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Габриэль Городецкий - Миф «Ледокола»: Накануне войны краткое содержание
История вступления СССР во вторую мировую войну продолжает оставаться «больной» темой для России. Яркий пример тому — коммерческий успех крайне тенденциозной книги В. Суворова (Резуна) «Ледокол». Одним из главных оппонентов Суворова с середины 80-х годов является автор данной книги, известный историк профессор Г. Городецкий, директор Каммингсовского Центра по изучению России и Восточной Европы Тель-Авивского университета. Полемизируя с Суворовым, Городецкий на огромном фактическом материале доказывает несостоятельность и провокационность версий Суворова.
Миф «Ледокола»: Накануне войны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако не следует принимать такие заявления за чистую монету. В основе указаний Коминтерну лежали интересы СССР, а не ленинские идеологические догмы об «империалистической войне». Сталин искренне стремился к прекращению войны, но не ранее, чем противоборствующие стороны основательно истощат себя. Ко всем коммунистам был направлен призыв «выступить решительно против войны и ее виновников. Разоблачайте нейтралитет, буржуазный нейтралитет» 11. Акцент на необходимости разоблачать миф об «антифашистской» природе войны не был напрямую связан с убеждением в ее империалистическом характере. Просто Сталин оставался при своем твердом мнении, что накануне войны Чемберлен прилагал отчаянные усилия направить германскую агрессию против Советского Союза, и полагал, что сорвал эти замыслы, заключив пакт Риббентропа-Молотова 12.
При подготовке проекта тезисов Коминтерна о новой империалистической войне, Димитров старался следовать ортодоксальным ленинским установкам, согласно которым война открывала новые революционные возможности. Однако 25 октября его вызвали Сталин и Жданов и прямо заявили, что во главу кампании за мир нельзя ставить революционные задачи. Была дана «еретическая» директива: коммунистические партии должны были проводить различие между буржуазными правительствами и выступать против тех, которые противятся миру. Димитрову было откровенно сказано, что «в первую империалистическую войну у большевиков была переоценка ситуации. Мы все забегали вперед, делали ошибки. Это можно объяснить тогдашними условиями, но не оправдать. Нельзя теперь копировать тогдашние позиции большевиков» 13. В обращении к различным партиям акцентировалось внимание не на идеологических догмах, а на борьбе с антисоветским курсом их конкретных правительств. Это являлось действительным критерием их деятельности. В тезисах о войне, принятых Коминтерном и лично одобренных в конце сентября Сталиным и Ждановым, этот поворот откровенно оправдывался национальными интересами Советского Союза, хотя на словах объяснялся идеологическими мотивами. Необходимость поддержки Советского Союза оправдывалась тем, что на протяжении всех переговоров Франция и Англия «вели курс на их срыв, стремились использовать их, чтобы достигнуть соглашения с Германией за счет СССР, втянуть Германию в войну с СССР и замаскировать переговорами подготовку этой антисоветской войны в глазах масс. Убедившись, что Англия и Франция не защищают дело мира, а готовят новый, худший вариант мюнхенского заговора против СССР, Советский Союз заключил договор о ненападении с Германией и тем самым сорвал коварные планы провокаторов антисоветской войны» 14. Постоянная подозрительность и страх перед возможностью сговора Германии с Англией в «странной войне» были причиной преувеличения Сталиным угрозы со стороны Англии и Франции.
На грани войны
Эйфория начального периода сменилась тревогой в связи с неудачами Красной Армии в «зимней войне» с Финляндией. Исчезли броские революционные лозунги Сталина, как можно судить по его выступлению на закрытом заседании Президиума Коминтерна в январе 1940 года. Вместо боевого призыва, с которым следовало бы обратиться, исходя из ленинской теории империалистической войны, Сталин неудачно заявил, что «действия Красной Армии — также дело мировой революции». Однако Красной Армии ни в коем случае не отводилась роль «ледокола». Напротив, Сталин поспешил заверить делегатов в том, что «мы не хотим территории Финляндии. Только Финляндия должна быть дружественным Советскому Союзу государством». Он закончил выступление, предложив тост за укрепление Красной Армии, а не более подходящий обстановке тост за успех мировой революции 15.
Поскольку секретные статьи пакта не были известны Западу, раздел Польши 18 сентября 1939 года вызвал в Англии два противоположных мнения, которые однако же привели к большим переменам в политике. Меньшинство полагало, что этот шаг был продиктован стремлением Советского Союза создать заслон против дальнейшей экспансии на восток, и предрекало «возможные трения между Германией и Россией». Такие надежды высказывал Уинстон Черчилль, занимавший тогда пост военно-морского министра. Но следует иметь ввиду, что политики, подобные Черчиллю, Антони Идену и Стаффорду Криппсу, признававшие перемены и выступавшие за развитие отношений с Советским Союзом со времени Мюнхенской конференции, были тогда париями в собственных партиях, находились на обочине британской политики. Другие деятели придерживались традиционной позиции, занимаемой министерством иностранных дел и начальниками штабов — особенно после заключения германо-советского договора о дружбе от 28 сентября, — согласно которой Советский Союз «по своим намерениям и целям является враждебной державой» 16.
Расхождения во взглядах имели своим следствием противоречивость политики. Примером этого является отношение Англии к советско-финляндскому конфликту. Россия мотивировала «зимнюю войну» опасностью, исходящей с севера еще со времени гражданской войны. Сталин был полон решимости прибегнуть к политическим и военным мерам в случае провала дипломатических переговоров 17. Англичане, с одной стороны, демонстрировали понимание русских, а с другой откровенно поощряли финнов противиться притязаниям России 18.
Разнобой еще более усилился в связи с неспособностью Чемберлена определить и сформулировать стратегические цели, соответствующие изменившимся реалиям. Внешняя политика по-прежнему определялась политическими взглядами, которые помешали заключению соглашения с Россией в 1939 году. Пользовавшийся большим влиянием заместитель министра иностранных дел Александр Кадоган признавался в своем дневнике, что в последнее время он «все больше и больше размышлял над тем, стоило ли воздерживаться от выгодных, по нашему мнению, действий лишь из-за страха оказаться в состоянии войны с Россией» 19. Однако оперативные работники Генштаба выступали за более осторожный подход «с чисто военной точки зрения». По их мнению, война с Россией «затруднит нам достижение главной цели в этой войне — поражения Германии» 20. Отдел северных стран министерства иностранных дел, занимавшийся Россией, не соглашался с мнением Генштаба и выражал сомнение в том, что Красная Армия «оказывала сдерживающее влияние на действия немцев. По мнению министерства иностранных дел, это не так, и, видимо, в наших интересах было бы полное сокрушение военной мощи России» 21.
Кадоган жаловался, что заключение мира между Советским Союзом и Финляндией «создало ситуацию, которую мы не в состоянии использовать в своих интересах. Благодаря этому русские смогут сблизиться с Германией и поставлять ей больше сырья». В итоге весной 1940 года были разработаны планы совместного англо-французского налета на бакинские нефтяные промыслы, причем это нападение на Советский Союз имело цель подорвать экономические ресурсы Германии 22. Полагали, что уничтожение нефтяных промыслов Баку и Батуми «окажет решающее воздействие на советскую военную мощь и жизнь страны». Перспективы были столь заманчивы, что Форин оффис пренебрег своим собственным предостережением, что этот акт «почти наверняка приведет к союзу между Германией и СССР». «Совсем не обязательно, — утверждал Кадоган, — что эта акция усилит какую-либо из сторон в военном отношении или что Германия сможет благодаря этому получать больше ресурсов из России, чем сейчас». Ни один из аргументов, выдвигаемых против этого плана, не принимал в расчет перспективу создания германо-советского союза. Больше опасались обострения отношений с Италией и Турцией и возможного ответного удара по позициям Англии на Ближнем Востоке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: