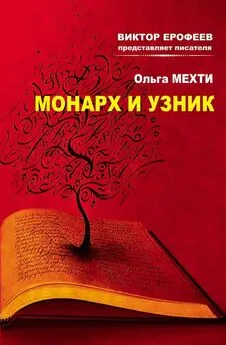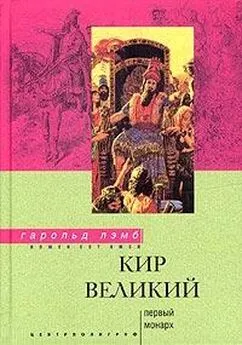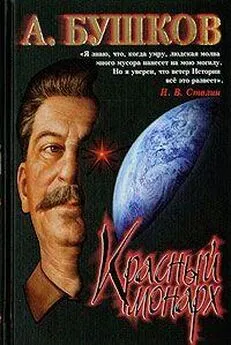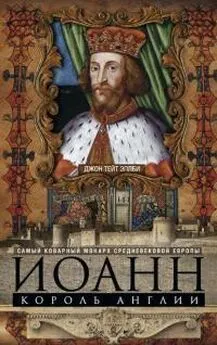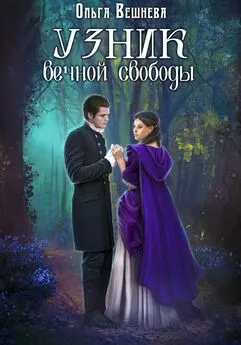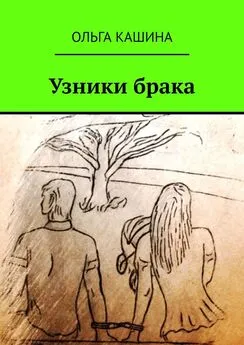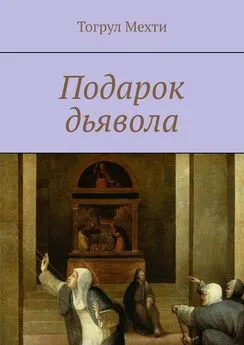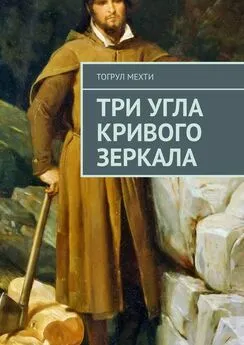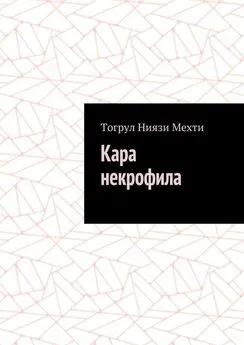Ольга Мехти - Монарх и Узник
- Название:Монарх и Узник
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Продюсерский центр Александра Гриценко
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-905939-92-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Мехти - Монарх и Узник краткое содержание
Автор рассказывает о драматических событиях присоединения туркменской земли к Российской империи, анализирует их развитие вплоть до современности на примере своей семьи и судеб друзей и знакомых, органично вплетая в структуру живописного повествования важные моменты истории мировых религий.
Монарх и Узник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Ашхабад, казалось, прилетела на машине времени, опередив российскую деревню примерно на век, и искренне удивлялась, а зачем русские генералы так стремились обустроить чужой край, если свои-то жили гораздо хуже? У меня копились сложные вопросы, особенно когда начали широко праздновать столетие «добровольного вхождения в состав России».
Прочитала, что русские называли туркмен «халатниками». Обиделась. Я-то до сих пор помню, как живописны были сельские туркмены в домотканых халатах и в кудрявых, будто специально завитых, барашковых папахах. В полдень они вытаскивали откуда-то маленькие коврики или кусочки кошмы и, оставшись в тюбетейке, которая была под папахой (а слово-то кавказское), прилюдно мыли ноги и руки водой из железного кувшинчика-кумгана, потом несколько раз ловко сгибались и шептали что-то про себя на непонятном языке. «Они склоняются в сторону священной Мекки», — пояснил отец, но запретил так пристально смотреть, чтобы не мешать им молиться.
Среди многих минусов политики царской империи был главный — туземцы, как тогда называли туркмен, были людьми иного сорта. При русском владычестве туркмены начали переходить на оседлый способ жизни. Но коренное население жило в основном вне пределов города, в центр приезжали из аулов лишь торговать на знаменитый текинский базар. Впрочем, так продолжалось долгие годы и при советской, читай — московской власти. Помню даже я, как селяне торговали молоком. Две оцинкованные емкости по бокам в хурджунах, а хозяйка в национальном халате, надетом рукавом на голову, увенчанную бориком (это нечто похожее на головной убор египетской царицы Нефертити), оседлав ослика, пятками в бока направляла уставшее или ленивое животное. Этих туркменок мы называли «дайза», то есть тетушка. Они же русских женщин называли «сестра». А были еще «кизимки», то есть девочки. Помню одну такую, в красном платьишке с голой шеей и стареньком пальто с чужого плеча, а на голове — чудная шапочка с торчавшей металлической пикой, и все было обмотано красным «бумажным» платком. Очень рано утром, почти в темноте, она тихонечко стучала в нашу калитку, снимала тяжеленный бидон из-за плеч и наливала молоко железной кружкой-меркой в мамин графин. Я запоминала, что «сюйт» — это молоко, а вот новое слово «аул», узнала, привезли русские солдаты с Кавказа, местные называют село «оба». Входили в обиход и другие слова: караван, арык, шашлык, саман, саксаул. Однажды девочка пришла из аула очень холодной зимой, а руки-то в кровоточащих цыпках. Мама запричитала, смазала маленькие ее пальчики маслом, перевязала новенькими тряпочками от платья, которое шила мне. Нашла вязаные перчатки. Я тогда очень жалела «кизимку» и детским умишком не понимала, почему так следует жить: русским в городе, а туркменам в селе. Но до сих пор геополитика мира во многом определяется именно таким противостоянием «цивилизации» Европы «варварству» Азии, а государственные мужи прежде великой державы и сегодня говорят о «неблагодарном присутствии азиатов в ойкумене современного мира».
Диффузия еще активнее нас смешала в шестидесятые. Шли даже слухи, что скоро отменят национальности. А мы их уже перестали различать. У меня появились закадычные подруги-туркменки. Мы все носили одинаковые джинсы, все взахлеб читали столичные журналы «Москва» и «Дружба народов», а потом «Иностранку» и передавали друг другу затертые «самиздаты», слушали вместе пластинки «Битлз». Но для Москвы мы по-прежнему считались отсталой провинцией. Даже всесторонне образованные мои первые учителя на ЦТ искренне удивлялись правильному русскому языку провинциалки, а сами путали в титрах азиатские республики — Туркменистан и Таджикистан.
После землетрясения восполнили численность населения те, кто приехал восстанавливать Ашхабад. Они обжили холмистую окраину города Гажу. Но некоторые, не влезая в исконно «персидский залив», как назывался старый район иранских переселенцев, все же умудрились уместиться в самом центре у «Текинки» маленькой улочкой глинобитных времянок, как раз на том месте, где сейчас автостоянка. Эти русские переселенцы жили бедно и очень обособленно. Для их детей «Текинка» была вотчиной, где нередко удавалось не только поживиться тем, что плохо лежит на прилавках, но и честно подзаработать. Рядом в автопарке девочки мыли салоны, а вечерами считали — переводили в рубли килограммы медной выручки водителей. Однокопеечными водители расплачивались. Текинские друзья были щедрыми, угощали на эти копейки текинскими чебуреками с зеленым луком, очень вкусными, их пекли умелые армянские женщины. Жизнью считаются моменты хорошего настроения, а хорошее настроение иногда бывает даже из-за таких мелочей, как зеленый лук в чебуреках, и потому сейчас, вспоминая об этих «текинских» днях юности, у меня опять становится хорошо на душе. В Асхабаде было два базара: для русских — Русский, для местных — Текинский. Сегодня в Ашхабаде на Русский базар, где цены кусаются, ходят за продуктами только туркмены и иностранцы, а на «Текинку» — люди победней, в основном русские. Возвращаясь в Ашхабад, я каждый раз спрашиваю: как там «Текинка», не разрушили? Это уже памятное место в истории города.
В девятом классе я опять столкнулась с откликом вой ны. У нас среди учебного года появилась крутобокая и краснощекая русская девочка с длинной черной косой и туркменской фамилией. Ее мама после фронта осталась в госпитале, там выходила контуженого офицера-туркмена, он полюбил русскую сестричку. Смешанные браки. Это еще одна страница в русско-туркменских отношениях. Всем казалось это правильным, даже наука подсобила, объявив, что чужая кровь облагораживает местных жителей. И мы верили. Было время, когда каждый выдвиженец из туркмен должен был иметь русскую жену, чтобы она его «окультуривала», это было, так сказать, входным билетом в советскую элиту. Впрочем, и сегодня туркменские юноши берут в жены русских девушек, но это по любви. А можно сказать и по-другому: русские девушки выбирают в мужья местных «амиго». Но теперь власти не очень приветствуют такие браки. Сын моей знакомой, талантливый парень, текинский красавец и богатырь, но имеющий в паспорте фамилию русского отца, так и не смог поступить в туркменский вуз. Сказали, меняйте фамилию… Но что она, политика, там, где правит любовь.
В «смешанном» браке родились дети первого Президента Туркменистана. Я дружила с детьми из туркменско-русских семей. Их самих, и детей, и внуков ожидала такая же печальная судьба, как и обычных русских переселенцев. Они по-прежнему носят туркменские фамилии и европейскую одежду, игнорируя негласный высочайший приказ отделам кадров — на фото для документов всем девушкам и дамам быть только в бархате с вышивкой и непременно в желтом платке. Русские туркмены доживают свой век на очень скудную пенсию и безмерно счастливы, если удалось хоть одному внуку дать высшее образование. Русская дочь одного «циковского» долго жила продажей галстуков из папиной большой коллекции, раньше-то все дарили мужчинам галстуки, а тем, кто на должности, так только импортные. Но и галстуки у нее уже закончились…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: