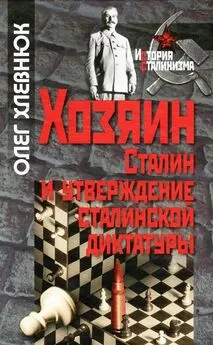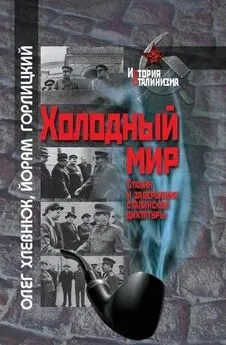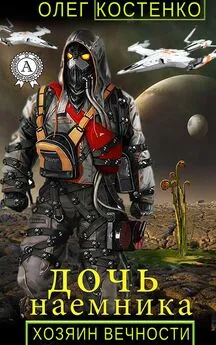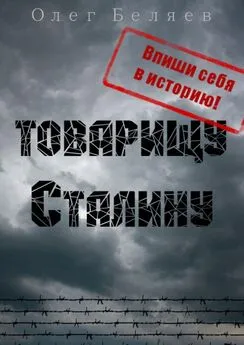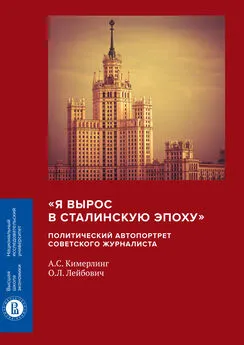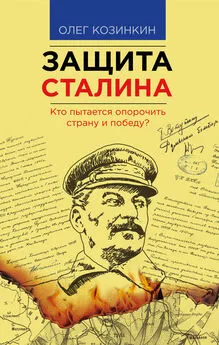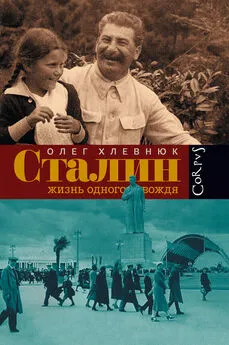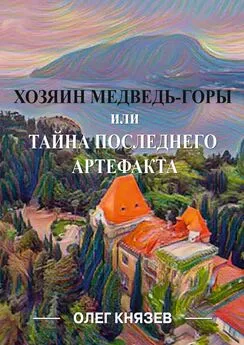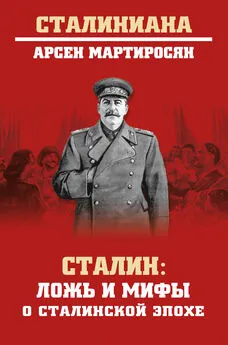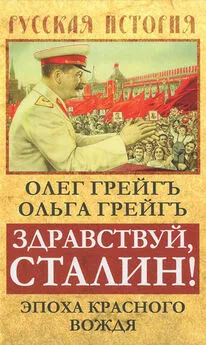Олег Хлевнюк - Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры
- Название:Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8243-1314-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Хлевнюк - Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры краткое содержание
На основании архивных документов в книге исследуется процесс перехода от «коллективного руководства» Политбюро к единоличной диктатуре Сталина, который завершился в довоенные годы. Особое внимание в работе уделяется таким проблемам, как роль Сталина в формировании системы, получившей его имя, механизмы принятия и реализации решений, противодействие сталинской «революции сверху» в партии и обществе.
***
Cталинская система была построена преимущественно на терроре. Это сегодня достаточно легко доказать цифрами, фактами. (…) Теперь мы благодаря архивам сумели изучить огромную проблему действительного соотношения общественной поддержки и общественного отторжения сталинизма. Мы, например, знаем, чего не знали раньше, что в 30-е годы в стране произошла настоящая крестьянская война. В антиправительственные движения были вовлечены несколько миллионов крестьян. (…) Голодомор в какой-то степени был реакцией на эти движения, которые действительно продолжались буквально с 32-го года, и в общем-то, на самом деле, крестьянские выступления заглохли потому, что голодные и умирающие люди просто уже не имели физических сил сопротивляться. (…) Теперь у нас есть много фактов о том, как происходила на самом деле борьба с оппозицией, как Сталину приходилось шантажировать некоторых своих соратников — например, пускать в ход компрометирующие материалы для того, чтобы удержать их возле себя.
Само количество репрессированных, а речь идет о том, что за эти 30 лет сталинского существования у власти (я имею в виду 30-е — конец 52-го года), разного рода репрессиям подверглись более 50 миллионов людей, свидетельствует о том, что, конечно же, эта система во многом была основана на терроре. Иначе он просто не был бы нужен.
Нужно просвещать, нужно писать, нужно говорить, нужно разговаривать, нужно приводить факты, нужно наконец эти факты просто знать. Хватит уже оперировать вот этими вот древними, в лучшем случае годов 50-60-х фактами, не говоря уже о том, что хватит оперировать фактами, которые сам Сталин выписал в своем «Кратком курсе». И давайте остановимся. Давайте все-таки начнем читать серьезную литературу. Давайте будем, подходя к полке в книжном магазине, все-таки соображать, что мы покупаем…
О.В.Хлевнюк (из интервью) 2008 г.
Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Некоторые итоги развития лагерной системы при Ежове подводила справка об итогах использования заключенных в лагерях в январе 1939 г., подготовленная в аппарате ГУЛАГ. Она свидетельствовала, что из 1,1 млн заключенных, составлявших среднесписочный состав лагерей в этом месяце, работало на производстве около 790 тыс. человек (69,8 %). Еще 10,4 % (117 тыс.) составляла обслуга лагерей и примерно столько же (около 118 тыс.) — заключенные, не работавшие по причинам инвалидности, болезней или слабосильности. 9,4 % (106 тыс. человек) входили в так называемую группу «Г» — заключенные, которые, с точки зрения лагерного начальства, могли работать, но по разным причинам не работали. Среди них — «контингенты», находившиеся в пути следования в лагеря или перевозившиеся из лагеря в лагерь; так называемые «отказчики» — заключенные, отказывавшиеся работать (около 14 тыс. человек); заключенные, которые не работали по причине отсутствия у них одежды (около 17 тыс.); заключенные, не получившие наряды на работу в силу простоев на производстве (более 15 тыс.) и т. д. [970] Там же. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1140. Л. 118.
Такое положение с лагерной рабочей силой (а приведенные цифры приукрашали истинную картину) условиях сокращения притока новых заключенных не позволяло выполнять хозяйственные планы Гулага. Эго заставляло руководство НКВД искать способы повышения отдачи от имеющихся заключенных. 9 апреля нарком внутренних дел Л. П. Берия обратился с письмом к председателю СНК СССР В. М. Молотову, в котором поставил ряд принципиально важных для Гулага вопросов. Берия сообщал, что численность лагерной рабочей силы примерно на 20–25 % ниже потребностей и этот разрыв в дальнейшем будет только возрастать. Для повышения производительности труда заключенных Берия просил увеличить нормы их снабжения продовольствием и одеждой. «Существующая в ГУЛАГе НКВД СССР норма питания в 2000 калорий, — говорилось в письме, — рассчитана на сидящего в тюрьме и не работающего человека. Практически и эта заниженная норма снабжающими организациями отпускается только на 65–70 %. Поэтому значительный процент лагерной рабочей силы попадает в категории слабосильных и бесполезных на производстве людей. На 1 марта 1939 г. слабосильных в лагерях и колониях было 200 000 человек и поэтому в целом рабочая сила используется не выше 60–65 процентов». Берия просил правительство утвердить новые нормы снабжения продовольствием, чтобы «физические возможности лагерной рабочей силы можно было использовать максимально на любом производстве».
В предшествующие годы важнейшим стимулом повышения производительности труда заключенных была практика условно-досрочного освобождения — снижения первоначально определенного срока тем осужденным (как правило, не политическим), кто добросовестно, с точки зрения начальства, трудился в лагере. Им засчитывали один рабочий день за два или даже более дней срока. В письме Молотову Берия предлагал отказаться от этой системы, т. к. она порождала «исключительно большую текучесть лагерного контингента». Основным стимулом для повышения производительности труда, считал Берия, должны быть улучшение питания и снабжения, денежное премирование и облегчение лагерного режима передовиков. Однако не слишком полагаясь на материальные стимулы, Берия предлагал ужесточить репрессивные меры: «По отношению к прогульщикам, отказчикам от работы и дезорганизаторам производства применять суровые меры принуждения — усиленный лагерный режим, карцер, худшие материально-бытовые условия и другие меры дисциплинарного воздействия. К наиболее злостным дезорганизаторам лагерной жизни и производства применять более суровые, судебные меры наказания, в отдельных случаях до высшей меры наказания включительно. Обо всех случаях применения этих мер воздействия широко оповещать лагерников» [971] ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 23 а. Д. 121. Л. 6–9.
.
Две недели спустя, 24 апреля 1939 г., Берия отправил в правительство еще одну записку. На этот раз он утверждал, что для выполнения программы 1939 г. НКВД необходимо свыше 1550 тыс. лагерных рабочих, хотя фактически на 1 апреля в лагерях, исключая инвалидов, имелось 1264 тыс. человек, из них до 150 тыс. «слабосильных и неполноценных рабочих». Особенно острой, сообщалось в записке, ощущалась эта проблема на Дальнем Востоке, где при потребности в 680–700 тыс. заключенных фактически было 500 тыс. Чтобы снять возникшую напряженность, Берия предлагал не расширять в 1939 г. строительные работы, порученные НКВД, и прекратить выдачу нарядов на выделение рабочей силы для других ведомств, а также перебросить в мае-июле на Дальний Восток и в Дальстрой 120 тыс. заключенных, сняв для этого 60 тыс. человек с контрагентских работ, где НКВД являлся только поставщиком рабочей силы, и переведя в лагеря из колоний 70 тыс. осужденных на срок до двух лет [972] ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 23 а. Д. 76. Л. 7–9.
.
Как и в других случаях, прежде чем принять столь кардинальные решения руководство СНК отправило записки Берии на согласование в различные ведомства. Ряд вопросов, поставленных в записках (например, об увеличении норм продовольственного снабжения заключенных и финансирования ГУЛАГ), не встретил принципиальных возражений [973] Там же. Д.70. Л.29–30.
. Однако вокруг проблемы условно-досрочного освобождения и применения высшей меры наказания к заключенным разгорелись споры. Фактически против этих предложений выступили прокурор СССР Вышинский и нарком юстиции СССР Рычков. В записках, отправленных в Совнарком, они доказывали, что система условно-досрочного освобождения должна быть сохранена (хотя и «упорядочена») не только потому, что она предусмотрена законом, но и в силу ее позитивного воздействия на укрепление дисциплины и увеличение производительности труда. Что касается применения высшей меры наказания в отношении «злостных дезорганизаторов лагерной жизни и производства», то Вышинский и Рычков настаивали на соблюдении существующих законов. В предложении Берии они не без оснований усматривали попытку узаконить чрезвычайное, по усмотрению руководства НКВД, применение расстрелов. Высшая мера не может применяться, писали Вышинский и Рычков, если подсудимый не совершил преступления, за которое уголовный кодекс предусматривает расстрел [974] Там же. Д.121. Л.2–5.
.
Точка зрения руководителей прокуратуры и наркомата юстиции первоначально получила поддержку в правительстве. 7 июня 1939 г. совещание заместителей председателя СНК СССР под председательством Молотова (Берия также присутствовал на нем) постановило вопрос о досрочном освобождении и применении расстрелов с обсуждения снять [975] ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 23 а. Д. 121. Л. 1.
.
Интервал:
Закладка: