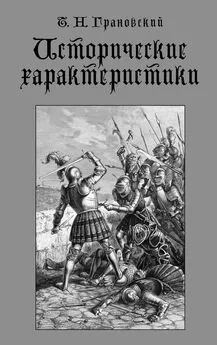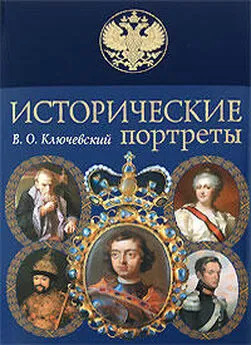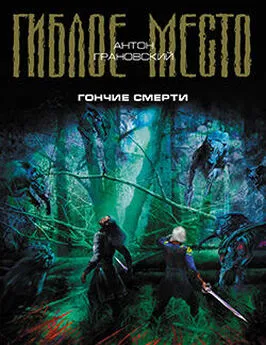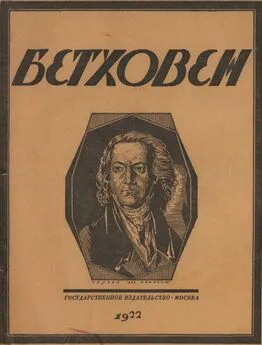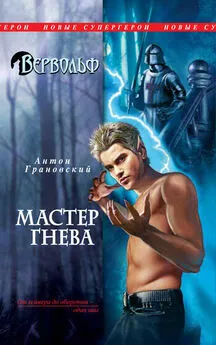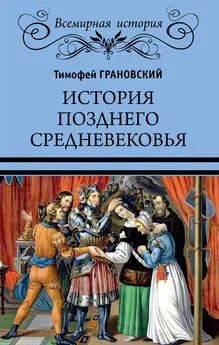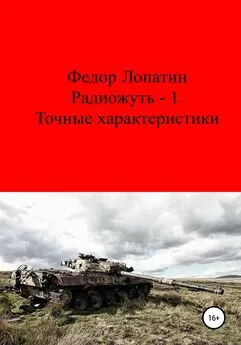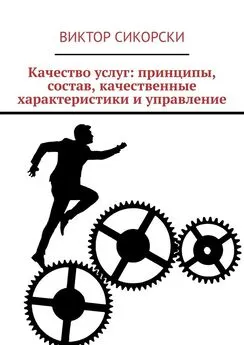Тимофей Грановский - Исторические характеристики
- Название:Исторические характеристики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0532-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тимофей Грановский - Исторические характеристики краткое содержание
В книге историка, профессора Московского университета Т. Н. Грановского (1813–1855) представлены забытые и малоизвестные широкой публике работы по истории Западной Европы в Средние века и Новое время: публичные чтения 1851 г. о Тимуре, Александре Великом, Людовике IX и Фрэнсисе Бэконе, а также статьи 1845–1847 гг., написанные для различных популярных изданий.
Книга адресована историкам, филологам, философам и всем, кто интересуется историей Западной Европы, историей научной и общественно-политической мысли в России XIX в.
Исторические характеристики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Говорить ли о печальных событиях 1848 года? [648]Роль, какую в то время играли некоторые из профессоров немецких университетов в качестве членов Франкфуртского парламента [649], по-видимому, укрепила прежнее предубеждение против «ученых школ», откуда могли выйти люди с таким вредным образом мыслей. Но разве гимназии или университеты, где обращено особенное внимание на древние языки и древнюю историю, служат исключительными рассадниками революционных идей? Самое известное из реальных заведений в Европе, Политехническая школа [650], со дня своего основания сохранила республиканское направление. Альфортская ветеринарная школа [651]постоянно высылала своих воспитанников на баррикады, как только в Париже подымался какой-нибудь мятеж. Австрийское правительство заводило у себя технические и реальные училища; оно никогда не оказывало большого поощрения классическому образованию, а венские студенты составили Академический легион [652]. И что общего между греко-римским миром и идеями коммунизма и социализма, возмущающими западные массы? Не ближе ли эти идеи, не родственнее ли так называемому реализму? Сохрани нас Бог от намерения заподозревать в дурном какую-либо науку. Наук вредных нет и быть не может. Каждая заключает в себе часть божественной истины, открывающейся нашему разуму с разных сторон в духе и во внешней природе. Не естественные науки произвели французскую революцию или нынешние нравственные болезни Западной Европы. Но нет никакого сомнения, что их решительное преобладание в воспитании, как всякая односторонность, вредно и опасно. Задача педагогии состоит в равномерном (гармоническом) развитии всех способностей учащегося, из которых ни одна не должна быть принесена в жертву другой. Знакомя юношу только со внешнею природой и с ее механическими и химическими законами, естествознание, отрешенное от учений, имеющих предметом духовные стороны бытия, неминуемо приводит к материализму. Само по себе оно не в состоянии удовлетворить нравственным потребностям человека. Шлецер [653], говоря о влиянии отдельных наук на просвещение народов, сказал, что можно представить себе целый народ отличных математиков, погруженный в глубокое варварство. Почти тоже можно сказать и о естествоведении. Можно предположить существование народа натуралистов без всяких определенных и твердых понятий о добре и зле. Прибавим, что в настоящую минуту естественные науки находятся на особенной ступени развития. Гордясь недавними и, действительно, блестящими успехами, они присваивают себе право окончательного решения вопросов, в продолжение тысячелетий занимающих разум человеческий и постоянно вынуждающих у него сознание собственного бессилия. Такое самоупоение науки, конечно, не может быть продолжительно. Рано или поздно она должна признать снова существование роковых граней, за которые не дано перешагнуть нашей любознательности. Но в ожидании неизбежного возврата к более трезвым и согласным с законами разума воззрениям естествоведение сообщает юным умам холодную самоуверенность и привычку выводить из недостаточных данных решительные заключения. Оно много содействовало к развитию в образованном поколении Запада той безотрадной и бессильной на великие нравственные подвиги положительности, которая принадлежит к числу самых печальных явлений нашей эпохи.
Но если польза, приносимая естественными науками, соединена, как показано выше, с некоторым вредом, то, повторяем, виною тому не самые науки, а место, данное им в господствующих системах воспитания, упускающих из виду целый ряд способностей и потребностей, которые таким образом остаются без надлежащей возделки и удовлетворения. Мы привели выше девиз реалистов: «Надобно учиться не для школы, а для жизни». Принимая это изречение в его настоящем смысле, они должны допустить, что или их теория недостаточна, или самое понятие их о жизни узко и скудно. Требования жизни бесконечно разнообразны: на них можно отвечать только всесторонним развитием всех сил, которых зародыши положены Творцом в духе человека. Здесь речь идет не о первоначальном образовании низших классов, которого задача и объемы определяются каждым государством сообразно с его положением внутренним и внешним, а о тех призванных к высшей и более обширной деятельности сословиях, специальному образованию которых должно предшествовать общее , без которого нет ни полного гражданина, ни полного человека.
Но разве древние языки должны быть вечною и неизбежною принадлежностью общего образования? Неужели, кроме исчерпанного до дна мира классической древности, нам неоткуда более заимствовать идей, которые можно было бы с успехом противопоставить угрожающему нам материализму? Неужели христианская история новых государств в этом отношении беднее языческой и мы не найдем в ней духовных средств против загрубления сердец и умственного упадка?
Отвечать на эти вопросы можно, по нашему мнению, не иначе, как разделив их на две части – строго ученую, научную, и потом педагогическую.
Излишне было бы говорить о пользе, которую изучение древней филологии успело уже принести всей совокупности наших знаний. Мало наук, которых начала не примыкают к трудам греческих мыслителей и ученых. Но польза эта уже принесена, и каждая наука успела совершить длинный путь, отделяющий ее от точки отправления. «Зачем же постоянно возвращаться к этой точке и повторять без надобности зады?» – говорят люди, считающие себя по преимуществу представителями умственного движения и защитниками прогресса. Но истинно великие произведения духа человеческого отличаются именно своею неисчерпаемостью. В этом-то и заключается тайна их бессмертия. Нельзя же нам отказаться от наслаждения поэзиею древних потому только, что отцы, деды и прадеды упивались ее непреходящими красотами. Дело идет вовсе не о превосходстве античного искусства над новым, а о том, что одно не может заменить другого, что у каждого есть своя, ему исключительно принадлежащая область и прелесть. Можно предпочитать Софоклу [654]Шекспира, нам более близкого и доступного, но кто осмелится сказать, что Софокл стал не нужен с тех пор, как явился Шекспир. Бессмыслие подобного приговора бросается в глаза, потому что оно объяснено резким примером; однако приговор этот истекает из целой теории, имеющей многочисленных защитников, которые считают себя вправе отказываться за нас от благороднейших памятников, созданных гением угасших народов. К счастью, наука не скрепляет таких отречений своим согласием и бережно хранит вверенные ей сокровища до других эпох, более способных их оценить и ими воспользоваться. Но искусство, скажут нам, не удовлетворяет всех потребностей современного человека, осужденного на бой с действительностью крайне положительною и трудною. Пусть наслаждается он им, как предметом роскоши, в минуту досуга. Трудовые часы его должны без раздела принадлежать науке, которая одна в состоянии сообщить ему силы, нужные для успеха в борьбе. Оставим в стороне вопрос о том, можно ли смотреть на искусство как на предмет роскоши, и не будем повторять тысячу раз приведенных доказательств его благотворного влияния на нравственную жизнь народов. Посмотрим, в самом ли деле нам нечему более учиться из древней науки; начнем с той именно отрасли, которая, по-видимому, наиболее совершила успехов в новое время и поэтому далее других отошла от колыбели своей, начнем с естествоведения. Относящиеся к нему труды Аристотеля [655]служат достаточным подтверждением сказанного нами о неисчерпаемости истинно великих произведений разума. Ссылаемся на добросовестное свидетельство всех натуралистов, изучавших науку не по одним новейшим учебникам, а знакомых с ее историческим развитием. Неужели они истощили сполна запас истин, находящихся у бессмертного Стагирита? Вместо ответа укажем на то, что высказали об Аристотеле такие авторитеты, как Кювье [656]и Жоффруа Сент-Илер [657]. Но их отзывы о трудах этого великого мыслителя по части естественных наук можно в такой же мере приложить ко всему сделанному им и в других сферах знания. Какой философ, какой историк, политик или критик в состоянии обойтись без его сочинений, когда дело идет о главных вопросах философии, политической жизни древних или искусства? Но сам Аристотель был только представителем того умственного движения, которое началось гораздо прежде его и продолжалось еще долго по его смерти. Следовательно, он может быть изучаем только в связи с тем целым, к которому принадлежит. Как отдельное явление он почти непонятен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: