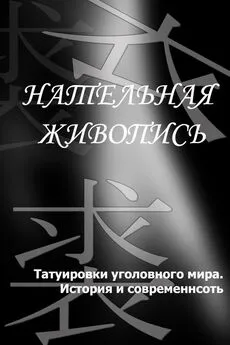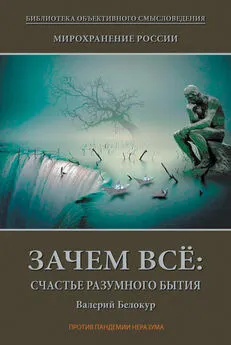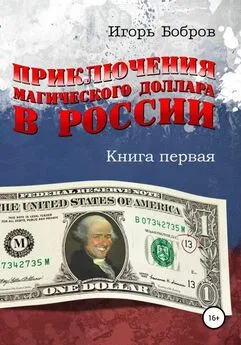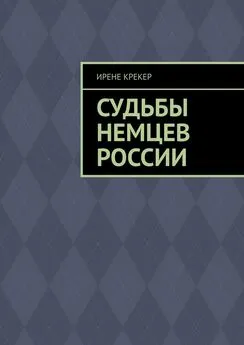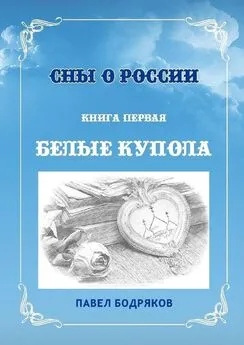Александр Сидоров - Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.)
- Название:Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:МарТ
- Год:1999
- Город:Ростов-на-Дону
- ISBN:5-87688-246-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.) краткое содержание
«История профессиональной преступности Советской России» — первое серьёзное и подробное исследование отечественной профессиональной преступности начиная с 1917 года. В книге проанализированы все этапы становления и развития профессионального уголовного мира СССР, его особенности, неформальные «законы» и традиции, критикуются неверные теории и ложные концепции целого ряда исследователей. Издание сопровождается богатым документальным и иллюстративным материалом.
Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений по специальностям «История России», «История государства и права», «Психология», «Социальная психология», «Пенитенциарная психология», «Уголовно-исполнительное право», «Культурология», «Социолингвистика» и другим.
Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга первая (1917-1940 г.г.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А что касается сталинского периода нашей истории, были здесь и свои особенности. Вот, к примеру, как развивалась далее история Кости Графа. «Отрешившись от старого мира», Константин Цингери уезжает на зимовку Отто Юльевича Шмидта. На Чукотке его арестовывают «за язык» — за письмо о произволе, который творился в тех краях. Признали троцкистом, руководителем антисоветской организации. Вот когда «блатарь» понял, кто такие «политики»: под пытками признал всё, что ему «вешали» славные чекисты!
Однако Графу удалось вновь связаться с Шейниным, и через год Костю освободили. Он вновь попал к Шмидту, в годы войны ушёл в армию. Попал в десантную группу, которую высадили в Норвегии. Здесь оказался в плену у немцев. После войны, разумеется, из немецких прямым ходом в советские лагеря…
И вновь Костя выходит на Льва Шейнина. Писатель вытаскивает его из-за «колючки» в очередной раз и устраивает в московский ресторан.
Полярные зимовки, страдания за правду, боевой десант, немецкий плен, несправедливые репрессии — всё это было, по большому счёту, существование на высокой ноте, яркие испытания, близкие «блатной» душе. Их Костя Граф выдержал. Но — споткнулся на простом искушении его уголовной натуры. Он вскоре попадается на хищениях и получает свою «десятку». Получает справедливо. И «отматывает» её от звонка до звонка. Но сразу же после освобождения вновь попадается — на грабеже. На этот раз — ещё семь лет.
Выйдя из зоны, Цингери вновь — в который раз! — пытается «завязать» с прошлым. Он направляет письмо в газету для осуждённых, которая издаётся в Ярославле: «Обращается к вам бывший вор Костя Граф…».
На помощь жулику приходит ярославский сыщик Виктор Дмитриевич Волнухин. Он устраивает Цингери администратором в железнодорожный ресторан. Но и там Граф повёл себя далеко не по-графски: его ловят, когда он «проверяет» карманы посетителей, и увольняют. Закончилась «трудовая карьера» Кости Графа на Ярославском заводе железобетонных конструкций. Откуда его опять-таки выгнали с позором, уличив в карманных кражах…
В истории Кости Графа, как в капле воды, отразилась вся история сталинской «перековки» «воровского ордена» с её красивыми жестами и фразами, показательными демонстрациями — и реальным «пшиком». Настоящему «вору», закоренелому рецидивисту, даже если бы он решил начать честную жизнь, тяжко пришлось бы в советском обществе. Его вольная, «жиганская» натура внутренне восставала против тоталитарного давления государства (не случайно же Граф сразу отправляется не на фабрику, а на край света, изолируя себя от общества). Он привык к своей — пусть ограниченной, пусть преступной, разнузданной — но свободе. К вольнице притонов, к «воровскому братству». К «красивой» жизни.
А что ему предлагалось взамен? Стать винтиком, безликой единицей, частью серой толпы. Это вовсе не общие слова. Это — констатация факта. Сами идеологи Страны Советов, те, кто её славил и возвеличивал, без всякой иронии, наоборот, с гордостью сообщают:
В Москве изменилась в 1931 году уличная толпа, окончательно исчезли раскормленные богачи и расфранченные их женщины, заметные при взгляде на улице всякой другой страны. В толпе почти невозможно разобраться. Здесь не существует понятий — рабочее лицо, лицо чиновника, крутой лоб учёного, энергичный подбородок инженера, о которых любят писать за границей… Толпа в 1931 году мало различима. Опытные советские люди различают в её гуще людей по особенным, временным признакам. «Наш человек», говорят они, глядя внимательно. Или — «не наш»… («Беломорско-Балтийский канал имени Сталина»),
Известный французский писатель Андре Жид, летом 1936 года побывавший в Советском Союзе, отмечал то же самое:
Летом почти все ходят в белом. Все друг на друга похожи. Нигде результаты социального нивелирования не заметны до такой степени, как на московских улицах, — словно в бесклассовом обществе у всех одинаковые нужды… В одежде исключительное однообразие. Несомненно, то же самое обнаружилось бы и в умах, если бы это можно было увидеть… На первый взгляд кажется, что человек настолько сливается с толпой, так мало в нём личного, что можно было бы вообще не употреблять слово «люди», а обойтись одним понятием «масса». («Возвращение из СССР»)
И в эту толпу — вживить «блатаря»? В это стадо «ушастых фраеров»? В это кодло «беспонтовых рогомётов»?! Абсурд… «Блатарь», «вор» остаётся свободным даже в лагере. Даже в тюрьме. Даже в бараке усиленного режима. На этом построена «воровская романтика», «воровская идея», «воровской закон». Быть может, свобода эта — грязная, пьяная, жестокая, кровавая. Но, привыкнув к ней, отвыкнуть почти невозможно.
«Там, где вечно пляшут и поют»
Курс на «перековку» «воров» и их социальную реабилитацию уже во второй половине 30-х годов постепенно сворачивается. Ещё звучат призывы и создаются красочные полотна, рисующие образы исправившихся «блатарей» — но на практике проводится уже несколько иная линия.
10 июля 1934 года ЦИК и СНК СССР издают постановление «Об образовании общесоюзного НКВД». Во главе этого ведомства становится Генрих Григорьевич Яго´да (Енох Гершонович Иегуда). Именно эта дата знаменует создание печально известного ГУЛАГа — Главного управления исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений НКВД СССР. В отличие от ГУЛАГа ОГПУ, ГУЛАГ НКВД объединил под своим началом все лагеря страны. В постановлении ЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 года к названию добавлено: «…и мест заключения». То есть ГУЛАГу были подчинены и тюрьмы. Начальником ГУЛАГа назначается Матвей Берман, бывший до этого начальником ГУЛАГа ОГПУ. На все важнейшие посты он ставит своих бывших соратников, у многих из которых за плечами — опыт соловецких лагерей.
С первых же шагов своей деятельности на посту руководителя НКВД Ягода стремится доказать, что под его руководством с преступностью будет покончено очень быстро. Он принимает ряд жёстких и, на его взгляд, эффективных мер по наведению порядка в стране.
Так, в конце 1934 года началось очищение городов и посёлков от уголовных элементов (другими словами, от бывших уголовников, если те не были заняты в общественном производстве). Многие «тридцатипятники», только недавно освобождённые за ударный труд на «великих стройках» по амнистии и по зачётам рабочих дней, снова оказались за «колючкой», не успев даже как следует осмотреться на воле.
До сих пор бытует в арестантской среде забавная присказка. Часто «сиделец», услышав словцо-паразит «вот» (нередко употребляемое плохим рассказчиком для заполнения пауз), с издёвкой вставляет тут же: «Вот! Дали ему год!» или «Вот! Дали ему год, а отсидел двенадцать месяцев!» Нынешним «сидельцам» кажется: соль шутки в том и заключается, что год — это как раз двенадцать месяцев, то есть какие бы поблажки тебе ни сулили, всё равно придётся отбыть своё «до звонка».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: