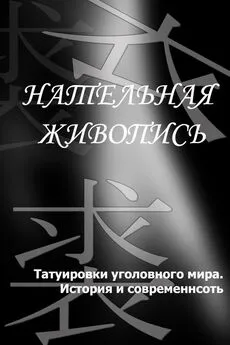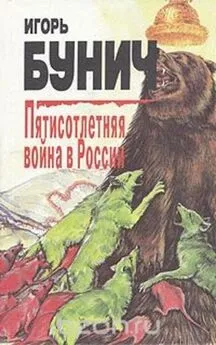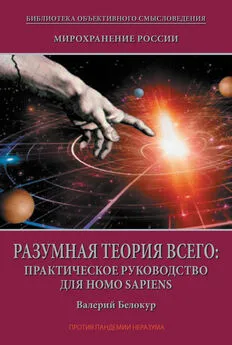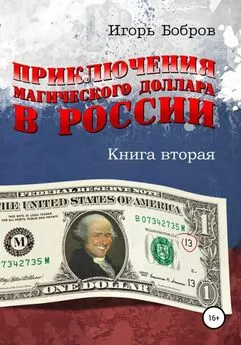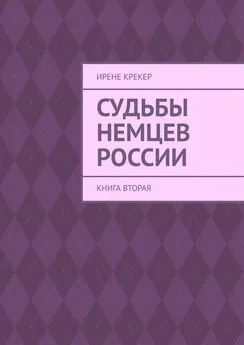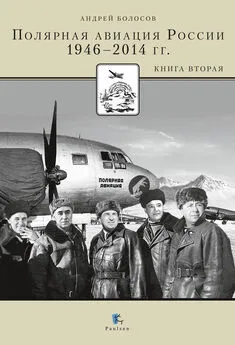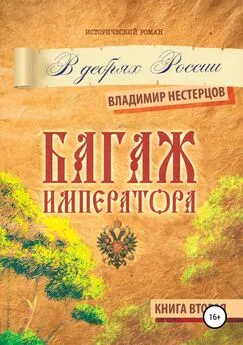Александр Сидоров - Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга вторая (1941-1991 г.г.)
- Название:Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга вторая (1941-1991 г.г.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:МарТ
- Год:1999
- Город:Ростов-на-Дону
- ISBN:5-87688-246-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга вторая (1941-1991 г.г.) краткое содержание
«История профессиональной преступности Советской России» — первое серьёзное и подробное исследование отечественной профессиональной преступности начиная с 1917 года. В книге проанализированы все этапы становления и развития профессионального уголовного мира СССР, его особенности, неформальные «законы» и традиции, критикуются неверные теории и ложные концепции целого ряда исследователей. Издание сопровождается богатым документальным и иллюстративным материалом.
Рекомендуется в качестве учебного пособия для высших учебных заведений по специальностям «История России», «История государства и права», «Психология», «Социальная психология», «Пенитенциарная психология», «Уголовно-исполнительное право», «Культурология», «Социолингвистика» и другим.
Великие битвы уголовного мира. История профессиональной преступности Советской России. Книга вторая (1941-1991 г.г.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как уже говорилось, на завершающем этапе войны свежие силы для пополнения советских войск стали черпаться из лагерей. И, разумеется, преимущественно из «блатных». Серьёзную силу они представляли особенно в войсках маршала Рокоссовского, участвовавших в боях за Польшу и Германию. С первых же шагов по чужой земле «пополнение» показало, чего оно стоит.
Было бы серьёзной ошибкой списывать все зверства советских солдат в Германии на «штрафников». На первых порах некоторые представители командования даже поощряли нетерпимость и «праведную месть» по отношению к немцам со стороны наших солдат и офицеров. Мягкость и сочувствие к местному населению нередко характеризовались как «предательство». Непосредственный участник боёв в Германии Лев Копелев — боевой офицер, майор, — был осуждён за «проявление гуманизма к врагу», который выражался в том, что Копелев выступал против насилия и мародёрства. Вот лишь несколько наиболее характерных отрывков из его романа «Хранить вечно»:
«В городе светло от пожаров. И здесь поджигали наши… На одной из боковых улиц, под узорной оградой палисадника, лежал труп старой женщины: разорванное платье, между тощими ногами — обыкновенный городской телефон. Трубку пытались воткнуть в промежность.
… Женщина бросается ко мне с плачем.
— О, господин офицер, господин комиссар! Мой мальчик остался дома, он совсем маленький, ему только 11 лет. А солдаты не пускают нас, били, изнасиловали… И дочку, ей только 13. Её — двое, такое несчастье. А меня — очень много… Нас били, и мальчика били…
… Младший из солдат оттолкнул старуху с дороги в снег и выстрелил почти в упор из карабина. Она завизжала слабо, по-заячьи. Он стреляет ещё и ещё раз. На снегу — тёмный комок, неподвижный. Мальчишка-солдат нагибается, ищет что-то, кажется, подбирает горжетку».
Впрочем, рассказывая о проявлениях такой жестокости, автор не раз подчёркивает важное обстоятельство. Копелев противопоставляет опытных фронтовиков, солдат в возрасте, знавших цену крови и не проливавших её понапрасну, — и мальчишек-новобранцев, опьянённых насилием и возможностью самоутвердиться, легко пуская в ход оружие. Тем более так много существовало оправданий — святая месть, ненависть к фашизму, «историческая вина» всего немецкого народа…И всё же — командир дивизии полковник Смирнов собственной рукой застрелил лейтенанта, который в подворотне устанавливал очередь к распластанной на земле немке. Или вот характерный диалог по поводу бесчинств освободителей:
«Один, постарше, сумрачный, с автоматом:
— Сволочи, бандиты, что делают!
Другой помоложе:
— А они что делали?!
— Не бабы же делали, не дети».
Если подобным образом поступали «нормальные» советские «воины», то что же тогда сказать об уголовниках в солдатской — и офицерской — форме!
Что же касается мародёрства, то уж это было делом фактически узаконенным! Известна записка руководства СМЕРШа лично Сталину, где докладывалось о беспрецедентных масштабах мародёрства со стороны высшего командного состава, и прежде всего — лично маршала Жукова, вывозившего награбленное имущество и ценности из Германии ЭШЕЛОНАМИ (разумеется, в ЛИЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ)!
Не отставали от Жукова и его подчинённые, например, генерал-лейтенант Владимир Викторович Крюков — один из мужей великой русской певицы Лидии Андреевны Руслановой. Вот что об этом пишет Борис Сопельняк в свой книге «Смерть в рассрочку», рассекретив уникальные документы с Лубянки:
Да, муж у Лидии Андреевны был личностью весьма своеобразной. Даже по нынешним временам таких воров и мародёров — поискать. Видавшие виды следователи из МГБ только за голову хватались, составляя опись изъятого при обыске имущества. Рояли, аккордеоны, радиолы, сервизы, меха и драгоценности — это понятно, при случае можно продать и перебиться, когда наступит чёрный день. Но зачем одному человеку, да ещё генералу, 1700 метров тканей, 53 ковра, 140 кусков мыла, 44 велосипедных насоса…78 оконных шпингалетов?..
Сам генерал признавался на допросах:
…Я скатился до того, что превратился в мародёра и грабителя… Я стал заниматься грабежом, присваивая наиболее ценные вещи, захваченные нашими войсками на складах, а также обирая дома, покинутые бежавшими жителями…
К сожалению, и сама Лидия Андреевна оказалась в этом смысле под стать своему муженьку-мародёру. По её поручению известный искусствовед Игорь Грабарь, художник Бельвин и некоторые другие «доверенные лица» в блокадном Ленинграде у умирающих с голоду людей выменивали за бесценок, за буханку хлеба картины выдающихся русских мастеров. У семейства Крюковых-Руслановых таким образом оказалось 132 картины, среди которых — шедевры Нестерова, Репина, Кустодиева, Шишкина, Айвазовского, Сурикова и т. д.
Если этим спокойно занимались советские главнокомандующие и генералы, мы можем только догадываться, что делали обычные офицеры и рядовые, а тем более — «блатные»! Так что не следует воспринимать приведённые выше эпизоды как «нетипичные» случаи, «отдельные проявления несознательности». К несчастью, то, о чём рассказывал Копелев, было типично. Иначе советское командование не было бы вынуждено принять жестокий, но необходимый приказ:
«В штабе читали вслух приказ командующего фронтом Рокоссовского. За мародёрство, насилие, грабёж, убийства гражданских лиц — трибунал; в необходимых случаях — расстрел на месте».
(После того, что читатель узнал выше о Жукове и Крюкове, он яснее представит себе лицемерие — в случае с Рокоссовским, возможно, невольное — этого приказа).
Маршал знал, о чём писал и с кем имел дело: сам был в своё время репрессирован, о нравах уголовников ему было известно не понаслышке. Армия Рокоссовского имела в своём составе немало подразделений, где воевали уголовники.
Так что вскоре многие из «блатных вояк» попали туда, где им и положено было находиться за свои «геройства» — в тюремную камеру. До нас дошёл один из портретов такого «штрафника»:
«Блатной Мишка Залкинд из Ростова… Толстомордый, прыщавый, с маленькими быстрыми глазками, тесно жмущимися к мясистому носу, он вошёл в камеру, заломив кубанку на затылок, пританцовывая и гнусаво напевая:
Разменяйте мине десять миллионов
И купите билет на Ростов…
Сказал, что разведчик; бесстыдно врал о своих воинских подвигах, а посадили его якобы за то, что по пьянке ударил начальника. На перекличке назвал 175-ю статью, т. е. бандитизм. Он хорошо знал многие тюрьмы и лагеря Союза».
Где ты теперь, Миша Залкинд? Может быть, ещё жив? «Бывший урка, Родины солдат»…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: