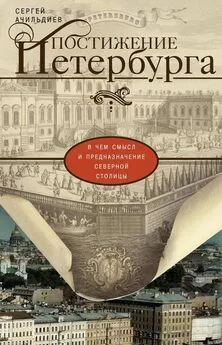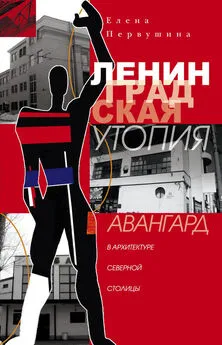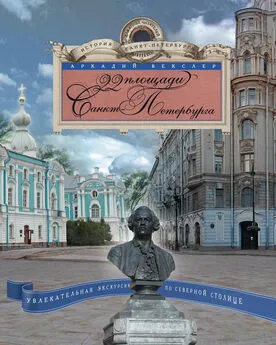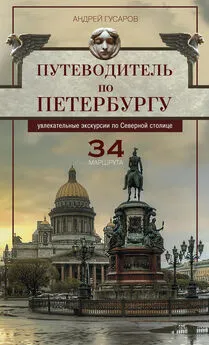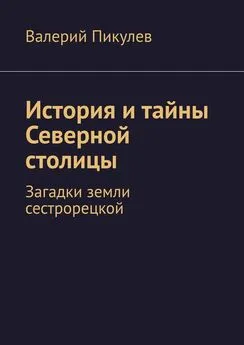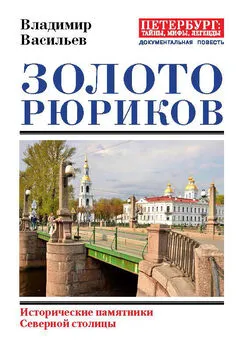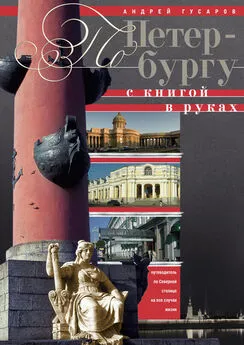Сергей Ачильдиев - Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы
- Название:Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-05997-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Ачильдиев - Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы краткое содержание
Это — книга-размышление о Петербурге. В чем смысл и предназначение Петербурга? Зачем он был основан и почему именно здесь, в самом устье Невы? Какова роль этого города в истории России, его место в Европе и мире? Как со временем трансформировались образ и характер Северной столицы? Каким на протяжении разных эпох представлен Петербург в литературе, живописи, музыке и каким его видели сами жители? Каково значение интеллигенции для становления городского самосознания? Что такое «петербургский стиль»? Какое будущее ожидает вторую столицу России? Таков круг основных тем, затронутых автором. Без преувеличения эту работу можно расценить как продолжение знаменитой книги Николая Анциферова «Душа Петербурга» (1922). Издание адресовано всем, кто интересуется историей России и Северной столицы.
Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как это ни удивительно, пушкинисты долгое время не уделяли внимания личности человека, благодаря которому Петербург обрёл один из своих наиболее загадочных образов. Едва ли не первым уже в 1990-е годы это сделал Михаил Талалай [4. С. 235–264].
Оказывается, уроженец Венеции Франческо Альгаротти (1712–1764) побывал в Петербурге в мае 1739 года вместе с английской делегацией, приглашённой на свадьбу Анны Леопольдовны (в ту пору ещё принцессы) с герцогом Антоном-Ульрихом Брауншвейгским. Несмотря на свои 27 лет, молодой итальянец был широко известен в Европе как литератор и учёный, член английской Королевской академии. Он водил знакомство с множеством выдающихся современников, включая Вольтера, прусского кронпринца Фридриха (будущего Фридриха Великого), а также российского посланника в Лондоне Антиоха Кантемира. Неудивительного, что столь крупная знаменитость стала гостем на самом пышном событии года да к тому же появилась там вместе с официальной делегацией своего государства.
С первого дня путешествия в далёкую страну Альгаротти вёл дневник, который изобиловал восторженными описаниями пышного церемониала бракосочетания, роскошных нарядов и лукулловских угощений. Однако, когда спустя двадцать лет старые записи превратились в книгу «Русские путешествия», в ней не нашлось места былым восхищениям. Можно только гадать, в чём скрывалась причина этой метаморфозы: то ли сказался возраст, в котором пылкая экзальтированность молодости уже неуместна, то ли повлияли некие веяния международной политики середины XVIII столетия…
Впрочем, в данном случае интересней иное: фраза Альгаротти, на которую ссылается Пушкин, в действительности звучала несколько иначе и вовсе не столь афористично. «Русские путешествия» были написаны в форме посланий, и первые восемь из них адресованы «милорду Херви, вице-канцлеру Англии», который ещё за полтора десятилетия до того переселился в мир иной. Так вот, в начале Письма IV говорится: «И что Вам сказать вначале, и что потом — об этом Городе, об этом, скажем так, большом окнище , недавно открытом на севере, из которого Россия смотрит в Европу?» [4. С. 251].
Но Михаил Талалай в предисловии к публикации писем Альгаротти приводит не менее интересное и образное высказывание другого автора той эпохи — лорда Балтимора, которое Альгаротти, возможно, знал и решил изменить на свой лад: «Петербург — это глаз России, которым она смотрит на цивилизованные страны, и, если этот глаз закрыть, Россия опять впадёт в полное варварство» [4. С. 236].
Впрочем, ещё интересней другое — почему чужая метафора вдруг так полюбилась Пушкину, что он занёс её в тетрадь с заметками к «Евгению Онегину», а затем, спустя несколько лет, навсегда увековечил в знаменитом вступлении к «Медному всаднику»? Больше того, смысл сравнения, сделанного заезжим итальянцем, русский поэт никак не изменил. Казалось бы, в том самом вступлении к поэме — грандиозном гимне Петербургу — куда естественней была бы, скажем, «дверь», а ещё лучше «врата». Тем более при Петре существовал именно такой образ — ворота в Европу. В 1708 году Стефан Яворский в своей проповеди назвал Петербург «вратами водными царствия Российского, замком Кроншлотом крепко заключаемыми» [3. С. 68]. К тому же «именно ворота были изображены на гравированном плане Петербурга 1721–1723 гг., изданном в Нюрнберге И.Б. Хофманном. На фрагменте с “Картой течения Невы" женская фигура (Россия) открывала символические двери-ворота к Балтике, в Европу» [3. С. 68].
Однако Пушкин оставил именно «окно». Что это — случайность, ошибка гения?.. А может, этим самым «окном» поэт хотел сказать, что мечты Петра о «европейскости» его новой столицы на самом деле были глубоко русскими и потому претендовать на большую роль Петербург попросту не в состоянии?
Параллельные заметки. Классики русской литературы оттого и велики, что всегда предельно точны в своих определениях. Как тут не вспомнить хрестоматийный чеховский афоризм про то, что надо по капле выдавливать из себя раба! Не привычными на Руси ёмкостями — стопками, стаканами, вёдрами, а только капля за каплей. Потому что в этом необычайно трудном деле результата можно достичь лишь в ходе долгого, мучительно долгого процесса. В чём все мы на собственном опыте и убеждаемся в последние два с лишним десятилетия.
Действительно, задачи в отношении Европы, которые ставил Пётр перед своим детищем, остались невыполненными. Начать с того, что северная столица не превратилась в крупный торговый порт, во всяком случае, по европейским меркам. Во-первых, как уже говорилось, фарватер был слишком мелким и к тому же с ноября по апрель покрывался льдом. А во-вторых, торговать России было, по сути, нечем, она всегда в основном служила сырьевым придатком Запада. В 1724 году, уже незадолго до смерти, «Пётр с гневом писал, что русские купцы, приехав в Стокгольм, торгуют перед королевским дворцом, к стыду России, только деревянными ложками и орехами! И ради этого было пролито море крови на войне? <���…> русских торговых кораблей в Европе не видели фактически до екатерининских времён, т. е. ещё лет пятьдесят.» [5. С. 383]. Правда, в начале XIX века Петербургский порт на Стрелке Васильевского острова всё же стал крупнейшим в России, на его долю приходилось около половины всего грузооборота страны. Но «главными статьями экспорта <���по-прежнему> были: хлеб, железо, оружие, лён, пенька, поташ, верёвки, канаты и т. д.» [9. С. 289].
Да и назвать Петербург в полном смысле слова европейским городом тоже было нельзя. «Со времён Петра Россия, обратив взоры на Европу, стала считать себя как бы её провинцией, а Европу — своей столицей, — писал Николай Мельгунов, известный публицист, помощник Герцена по эмигрантской издательской деятельности. — Справедливость этого замечания нигде так не ощущается, как в Петербурге. В нём все тянутся за Европой и её жизнью, как провинциалы за жизнью столичного города» [19. С. 227].
Такого рода провинциализм в сочетании с внешним, вполне западным лоском долгое время придавал Петербургу черты пародии на Европу. Ведь хотя Пётр и переодел своих подданных, прежде всего жителей новой столицы, в европейское платье, исподнее-то всё равно сохранялось азиатское. Как с сарказмом заметил в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Фёдор Достоевский, «нам легко давалась Европа, физически, разумеется. Нравственно-то, конечно, обходилось не без плетей» [13. Т. 5.
С. 56–57]. А много лет спустя другой петербуржец, Александр Городницкий, написал:
Не первый век и не последний год
Среди пастушек мраморных и граций
Здесь русская трагедия идёт
На фоне европейских декораций [11. С. 113].
Интервал:
Закладка: