Александр Панченко - Русский политический фольклор. Исследования и публикации
- Название:Русский политический фольклор. Исследования и публикации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-179-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Панченко - Русский политический фольклор. Исследования и публикации краткое содержание
В сборник «Русский политический фольклор», подготовленный учеными Санкт-Петербурга и Москвы, вошли исследования и публикации, посвященные массовому восприятию политических событий и процессов XIX – начала XXI века. Издание включает работы о политических легендах и анекдотах, тюремных песнях и рукописной сатирической поэзии, советской цензуре в области фольклористики и политических мифах современного православия. Материалы массовой культуры и различные формы устных нарративов, исследованные в сборнике, позволяют по-новому взглянуть на «структуры большой длительности», характерные для российского общества Нового и Новейшего времени.
Русский политический фольклор. Исследования и публикации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так, во второй половине 1920-х годов существовали разные формы мифологизации фигуры Ленина. Большое количество литературы написано об официально санкционированном «культе Ленина» (Tumarkin 1983; Velikanova 1996; Ennker 1997; Тумаркин 1997; Панченко 2005; Богданов 2010), в том числе и об использовании государственной пропагандой фольклорных матриц (Панченко 2005), однако засвидетельствованы и другие представления, согласно которым Ленина подменили восковой куклой, пытались убить, а он бежал и до поры до времени скрывается и т. д. Рабочие одной из ленинградских фабрик, взволнованные подобными слухами, в феврале 1924 года потребовали от правительства показать им «живого Ленина», скрываемого от народа, поскольку он хотел облегчить жизнь простым людям (Неизвестная Россия IV). Соответственно, истоки этой мифологии связаны не с официальным «культом Ленина», а с традиционными утопическими представлениями о спасшемся царе-избавителе (Чистов 2003; Панченко 2005: 339–340; Архипова 2010). Носители обеих «мифологий» могли воскликнуть «Ленин жив!», но при этом содержание данного высказывания отсылало бы к совершенно разным и даже противоположным традициям. Несомненно, что эти две мифологии не представляли собой параллельных прямых, наоборот, они пересекались и влияли друг на друга [21].
Таким образом, следует различать мифологию «искусственную» и мифологию «спонтанную». В отличие от спонтанной мифологии, производимой обществом для собственного потребления, мифология искусственная создается «на сбыт» с определенными идеологическими и практическими целями. Это, как правило, именно политическая мифология, включающая в себя механизмы манипулирования общественным сознанием. В силу этого, однако, она вынуждена опираться на семантические структуры «спонтанной» мифологии – в противном случае ее «сообщения» попросту не будут услышаны и поняты. Отсюда, впрочем, не следует, что проповедники, политтехнологи или журналисты только артикулируют уже существующие настроения. Они несомненно несут ответственность за их интенсификацию и оправдание, что, скажем, в полной мере проявилось в истории антисемитизма (бытовая ксенофобия, несомненно, является почвой для соответствующих концепций, оправдывающих ее, но, в свою очередь, эти концепции переводят бытовую ксенофобию на другой уровень – со всеми чудовищными последствиями, продемонстрированными XX веком).
Исследований, посвященных «советской мифологии» в первом значении, – огромное количество (обширную, хотя не исчерпывающую библиографию см.: Богданов 2009: 252–351), и часто советская культура исследуется как некий дискурс, адресантом которого является «народ» (из последних работ на эту тему см.: Скрадоль 2011; Богданов 2009; Рольф 2009). Сторонники такого подхода рассматривают советскую культуру как «конвенционально целое » (Богданов 2009: 12). Однако наша задача – иная. Мы занимаемся «неподцензурными», часто протестными по своему содержанию формами, которые возникали в 1920–1930-е годы на стыке традиционного «языка» и советского «новояза», вступая в сложные взаимодействия с официальной идеологией, чье отношение к ним, в свою очередь, менялось на протяжении первых послереволюционных десятилетий.
Об этом, собственно, и статья.
Пристальное внимание правящих режимов к «фольклору» и «народной культуре» – вещь не столь уж частая. В европейской истории Нового времени подобные ситуации, как правило, могут быть соотнесены с социально-политическими проектами коллективного дисциплинирования и мобилизации. Ближайшей параллелью здесь можно считать церковную борьбу с «ересями» и «суевериями» в разные эпохи (например: Ginzburg 1989: 156–164; Живов 2009: 327–361). Однако светские администраторы проявляют интерес к «народной словесности» значительно реже; поэтому рассматриваемый ниже диалог «власти» и «фольклора» в Советском Союзе следует считать довольно примечательным.
Речь в статье пойдет о первых послереволюционных десятилетиях XX века, когда вновь созданное государство и «народ» [22]оказались в ситуации своеобразного прямого взаимодействия, без посредства сложных иерархических механизмов прежней социальной и культурной системы. «Народ» использовал для этого взаимодействия язык традиционной культуры (по определению спонтанный и нерегулируемый, но в 1930-е годы осваивающий современные реалии и элементы советского «новояза»), а властные политико-идеологические инстанции экспериментировали, пытаясь создать свои собственные инструменты как для рецепции этого языка, так и для воздействия на него – селекции, подмены и подавления.
В отечественной истории это был самый масштабный эксперимент по установлению подобного диалога, хотя некоторые его формы можно обнаружить еще в конце XVII–XVIII веке, когда государство проявляло повышенное внимание к «голосу народа» в ходе борьбы с песнями, затрагивающими высочайших особ (Анисимов 1999: 84–85; Пыпин 1900: 554–555), с «непристойными речами» (слухами, анекдотами, легендами) (Побережников 2006: 26), «суевериями», т. е. с традиционными религиозными практиками, неподконтрольными церкви и государству (Живов 2009: 343, 355–356). К середине XIX века это внимание ослабевает, отменяется ряд запретительных указов, но получает развитие научная фольклористика, предпринимающая интеллектуальное освоение этого материала.
1. «Новый фольклор» в «Новом мире». 1920–1930-е годы
Когда мы говорим «устные традиции» (или «фольклорные традиции») применительно к русскому материалу XX века, мы сталкиваемся с двумя значениями этого термина. С консервативной точки зрения, фольклор – так называемое народное творчество, продуцируемое социальными слоями общества, не владеющими кодом «высокой» литературы и культуры, т. е. прежде всего крестьянские тексты и традиции. После революции такой романтический взгляд на устное творчество как на выражение «духа народа» был пересмотрен в духе марксистского учения о классовой борьбе и фольклоре как отражении этой борьбы.
Социальные катастрофы начала XX века, миграции с периферии в центр и обратно, а также отмена черты оседлости – все это привело к стихийному «перемещению масс», которое ускорило обмен информации между теми социальными слоями, которые в дореволюционной жизни были значительно отделены друг от друга, и, соответственно, создало условия для быстрой интерференции фольклорных текстов, принадлежащих изначально замкнутым внутри себя социальным группам. Крестьяне, например, чье осмысление действительности, как правило, не выходило за пределы кругозора своей деревни, обрели небывалую дотоле возможность соотносить происходящее вокруг с событиями государственного масштаба и действиями власти; соответственно, вполне традиционные фольклорные тексты стали получать не имевшуюся ранее референцию к актуальной политической истории.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


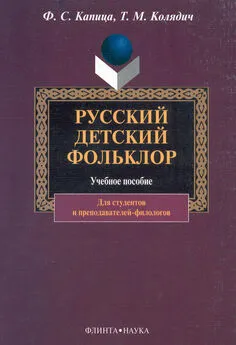


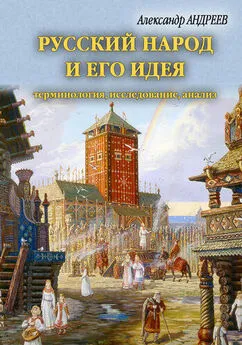
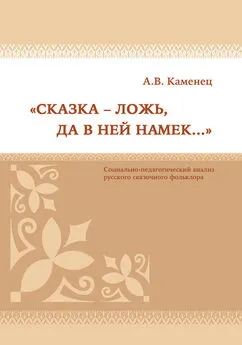
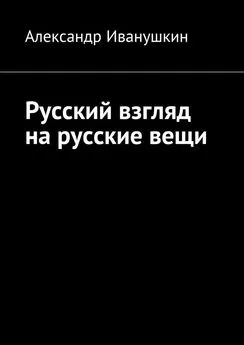
![Ричард Пайпс - Русский консерватизм и его критики. [Исследование политической культуры]](/books/1070934/richard-pajps-russkij-konservatizm-i-ego-kritiki.webp)

