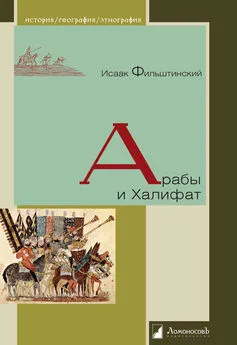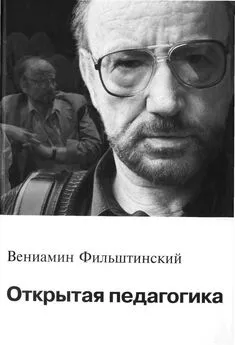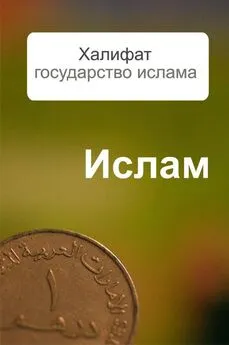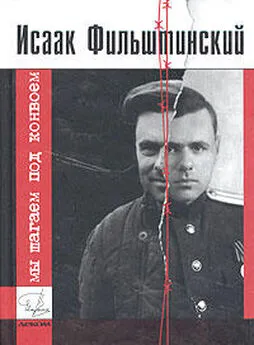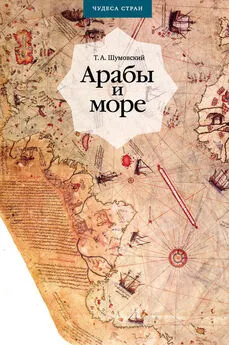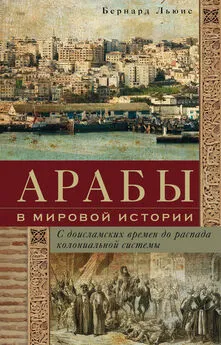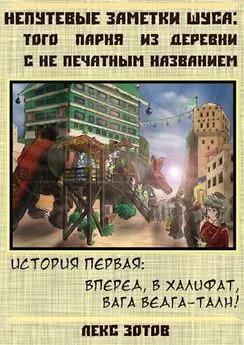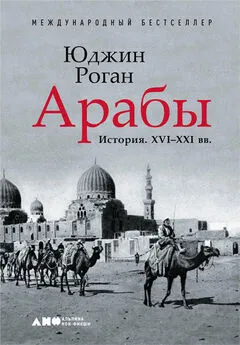Исаак Фильштинский - Арабы и Халифат
- Название:Арабы и Халифат
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ломоносовъ»77e9a3ea-78a1-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91678-264-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Исаак Фильштинский - Арабы и Халифат краткое содержание
Эта книга рассказывает о полном непростых поворотов, извилистом пути арабов на протяжении без малого восьмисот лет. В центре внимания автора – время расцвета арабомусульманской культуры, пришедшееся на правление Аббасидов, при которых завершился процесс арабизации Сирии, Ирака, значительной части Египта и само понятие «арабы» приобрело новое содержание. Переработав наследие народов Средиземноморья и Древнего Востока, арабы не только усвоили многие их достижения, но и познакомили с ними Западную Европу. Халифат Аббасидов соперничал с Византией, успешно противостоял крестоносцам, но не устоял перед монголами, которые в 1258 году разрушили его столицу Багдад. После этого Аббасиды, потеряв власть, но сохранив титул, оставались халифами при каирских султанах вплоть до середины XVI века, когда на Ближнем и Среднем Востоке окончательно утвердилась власть Османской империи. Исаак Фильштинский (1918–2013) – историк, арабист, доктор филологических наук, профессор МГУ.
Арабы и Халифат - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Большинство мусульман не восприняло хариджитского максимализма, полагая, что мусульманская вера (иман) требует, чтобы люди жили в соответствии с законами ислама в той мере, в какой это возможно. Признавая связь между исламской верой и совершаемыми во имя ее благими делами, мусульмане в своем большинстве не считали, что вера и строгое праведное поведение – понятия идентичные. Поэтому даже закоренелые враги Омейядов сочли за лучшее ради единства общины примириться с их властью и отвергнуть экстремистские теории хариджитов, предъявлявших правоверным невыполнимые и разрушительные для общины требования.
Однако не только традиционалисты, «люди сунны и общины» (ахл ас-сунна ва-ль-джамаа), выступили против хариджитов во имя сохранения исламского единства. Они не нашли поддержки и среди исламской аристократии – Алидов. Так, один из внуков Али – Хасан ибн Мухаммад ибн аль-Ханафия создал теорию «ирджа» («откладывания»), согласно которой решение о греховности того или иного человека «откладывалось» до вынесения приговора самим Аллахом, ибо лишь Ему одному было доступно знание того, что творится в душе человека и в какой мере человек искренен в вере. Теологи-традиционалисты восприняли эту теорию, сторонников которой называли мурджиитами, и было признано, что даже человек, совершивший тяжкий грех, остается мусульманином.
Таким образом, мурджииты не отождествляли политику с моралью, что создавало в их теории неразрешимое противоречие. В политике они были детерминистами и не признавали ответственности человека за его действия, поскольку все свершается по воле Аллаха. В области же морали они, напротив, требовали от мусульманина справедливости и достойного поведения, возлагали на человека ответственность за его поступки и лишь «откладывали» окончательный приговор до решения самого Аллаха.
Со спором о том, остается ли человек, виновный в тяжком грехе, мусульманином, теснейшим образом был связан вопрос о предопределении и «свободе воли», о том, в какой мере действия человека определяются божественной волей и как совместить божественное предвидение и благость с наличием в мире зла. В примитивной среде древних аравитян, равно как и на ранней стадии распространения ислама, внутренняя противоречивость учения о предопределении еще не осознавалась. Доисламские язычники помещали своих богов внутри космоса и тем самым делали их жертвами внутрикосмической несвободы. Их возмущала не сама совершавшаяся несправедливость (ведь все было во власти слепого рока), а то, что она оставалась без возмездия. К древним богам странно было бы предъявлять претензии за наличие в мире физического и морального зла, но от них можно было требовать того же, что и от добросовестного земного судьи или старейшины, – справедливого распределения наград и наказаний. Так же на первых порах трактовалась и власть Аллаха.
Но когда ислам стал распространяться в странах с древними эллинистическими и иранскими религиозно-философскими представлениями и традициями, учение об абсолютной предопределенности всего происходящего стало приводить в смущение многих вновь обращенных. Вчерашние византийские христиане, восприняв ислам, привнесли в мусульманскую религиозную мысль новую проблематику.
В Коране Аллах предстоит как сверхприродная духовная личность, создавшая этот мир и управляющая им. Хотя Пророк призывал людей свободно следовать новой вере, он добавлял к этому призыву обещание посмертной награды подчинившимся и принявшим новую веру и угрозы посмертного наказания тем, кто ее отвергнет. Поэтому одним из первых в монотеистическом исламе возник вопрос о предопределении, о совместимости существования единовластного Бога с присутствием в мире зла.
Спор о «свободе воли», по-видимому, перешел в исламскую теологию из христианства. Еще виднейший из западных Отцов Церкви Блаженный Августин (354 –430) задавался этим вопросом и утверждал, что воля Божья предваряет всякое творение. Действительность, согласно его учению, полна чудес, непостижимых для человеческого ума событий и явлений, за которыми скрывается воля Творца. В исламе сторонники учения об абсолютном предопределении получили наименование «джабриты» (от слова «джабр» – «принуждение, насилие»). Свои представления об обусловленности всех поступков человека, равно как и всего того, что происходит на белом свете, божественной волей джабриты основывали на соответствующих текстах Корана.
В Коране неоднократно повторялось, что Бог есть творец людей со всеми их помыслами и действиями. Но в то же время Коран налагал на людей ответственность за их грехи и дурные поступки, угрожая наказанием в загробной жизни. Мухаммад не объяснял, каким образом человек, будучи неволен в своих поступках, должен отвечать за них. Но Мухаммад не был теологом, он был проповедником и политиком. Разъяснить это противоречие должны были теологи и интерпретаторы священного текста.
Учение джабритов о предопределенности человеческих поступков божественной волей имело практическое значение, ибо на его основании утверждалось правомочие любых лиц или групп, добившихся политической власти, начиная с Мухаммада и первых «праведных» халифов и до Омейядов. Догмат предопределения оказался важным духовным оружием в период завоевательных войн, так как из него можно было вывести, что, какая бы опасность ни угрожала мусульманину, он не погибнет, если это ему не предопределено, и потому вел к фатализму и бесстрашию.
Против сторонников абсолютного детерминизма выступили кадариты («кадар» – «могущество, власть», что понималось как власть человека над своими поступками, то есть «свобода воли»). Согласно учению кадаритов, Аллах передает свои приказания Пророку посредством откровений, а человек волен прислушиваться к его повелениям или их нарушать, за что его и ожидает соответствующее вознаграждение или наказание.
В отличие от джабритов, кадариты не желали оправдывать всякую власть божественным предназначением и судили имама как знатока и исполнителя предначертаний Корана и сунны. Они осуждали поздних Омейядов, исходя не столько из политических, сколько из моральных соображений. Позиция кадаритов была воспринята человеком, стоявшим у истоков религиозных и интеллектуальных движений в исламе, – Хасаном аль-Басри (умер в 728 году), который безжалостно и открыто разоблачал аморализм, царивший в его время при дворе омейядских халифов.
Омейяды обладали абсолютной властью в государстве, но никогда не претендовали на контроль за исламской идеологией, которая оставалась в ведении либо священнослужителей Мекки и Медины, либо политических противников правящей династии. Придя к власти, Аббасиды начали претендовать не только на абсолютную политическую власть, но и на идеологический контроль над исламским обществом. При Аббасидах проблема «предопределения» несколько усложнилась. Тезис о «свободе воли» все еще вызывал в среде теологов догматические споры, но рамки теологических дискуссий расширились и постепенно стали включать ряд вопросов, позднее получивших освещение в основных положениях мутазилитского калама (об этом см. далее).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: