Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3
- Название:Отпадение Малороссии от Польши. Том 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Университетская типография, Страстной бульвар
- Год:1888
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3 краткое содержание
П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом «украzнськоz національноz ідеологіz», многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его «апостолом нац-вiдродження». В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, «идеализировал гетманско-казацкую верхушку». Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях «История воссоединения Руси» (1874-77) и «Отпадение Малороссии от Польши» (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих «диких по-восточному представителей охлократии» – на судьбы Отчизны. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишом, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором.
Отпадение Малороссии от Польши. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Роли на широкой сцене человекоистребления переменились. Прежде война представляла зрелища, воспетые кобзарями Хмельницкого:
Тоді козак і лісом конем бижить,
Коли ж дивицця, аж кущ дрижить;
Коли гляне, аж у кущі лях як жлукто, лежить.
То козак козацький звичай знає,
Із коня ссідає
І келепом ляха по ребрах торкає...
Теперь кусты дрожали от прятавшихся казаков, а жолнеры сделались храбрецами все, от первого и до последнего. Теперь и те, которые побросали знамена в Зборовских коноплянниках, смотрели такими героями, как совращенный в латинство литво-русский князь, Корибут Вишневецкий.
Но даже и в последней беде, какая может озадачить воина, когда творец отважного и беспримерно удачного бунта покинул свое войско, а войско покинуло свою неодолимую крепость, — даже и в этом безнадежном положении, многих беглецов, унесенных силою паники, можно было назвать образцовыми воинами. Несколько примеров геройской решимости, не имеющей ничего подобного в бегстве панов пилявчиков , сохранила для нас польская историография.
800 казаков, засекшись в леску, защищались так, как Вишневецкий в Збаражской западне. С одной стороны бил их свой же брат, русин, князь Богуслав Радивил, с другой — такой же русин, Стефан Чернецкий. Они отвергли все условия предлагаемой им пощады, и все легли на месте до последнего, дав урок своим отступникам, как надобно стоять за свободу с более высокими целями, нежели свобода казацкая.
Другой отряд казаков, состоявший из двух или трех сотен, укрепился на острове и решился выпить горькую чашу смерти до дна с таким спокойствием, с каким были распиты и разлиты добрые горилки, меды и вина под Пилявцами. Долго защищались казаки без всякой надежды на спасение, превосходя в этом случае героя Збаражского, которого надежда на выручку не покидала до конца. Дивясь их мужеству, Николай Потоцкий предлагал им помилование. Не захотели они принять помилование от ляха, от перевертня. В знак презрения к пекельникам и их дару, высыпали казаки из чересов деньги в воду, а сами так сильно поражали нападающих, что только пехота, наступив на них колонною, разорвала их и загнала в болото. Не поддались и там завзятые. Стоя по пояс в воде, оборонялись они до тех пор, пока не перестреляли их поодиночке. Один из этой горсти героев-разбойников добрался как-то до челнока, и несколько часов играл с неминуемою смертью, отвергая помилование. Стреляли по нем с обоих берегов реки.
«Не знаю» (пишет, пересказывая об этом Освецим), «стрелки ли в него не попадали, или, может быть, его не брали пули». Наконец, один Мазур, раздевшись до нага, вошел по шею в воду, и нанес ему удар косою, а жолдак пробил копьем. «Король» (говорит очевидец) «долго смотрел с большим вниманием и радостью на эту трагедию. Многих, точно уток, ловили по болотам, вытаскивали и убивали; никого не щадили, даже женщин и детей, но всех истребляли мечом».
То была в самом деле сцена из последнего акта трагедии, которой «начало» видел столь же достойный зритель — наш «святопамятный».
Добыча, полученная в казацком таборе, была значительная, хотя, безо всякого сравнения, не такая, какая досталась казакам под Пилявцами, «потому» (замечает Освецим), «что казаки на серебре не едали и цугами в каретах не езжали». Взяли победители без победы весь скарб Хмельницкого, а было в нем, по показанию Крысы, две бочки талеров для уплаты Орде. Жолнеры так поживились при этом, что одному товарищу досталось 1.500 дукатов. Взяли также паны 60 пушек, из которых 18 оказались прекрасной работы, с лафетами, 7 бочек пороху, кроме того, что было расхватано жолнерами, бесчисленное множество огнестрельного и холодного оружия и до 20 знамен, — в том числе знамя, которое послал король Хмельницкому через комиссаров. Оно было красного цвета, с изображением белого орла и двух русских крестов. Другое знамя, в том же числе голубое, было то, которое дал казакам Владислав IV в 1646 году, зазывая в Турецкую войну. На нем был изображен орел, пополам белый и красный.
В плен взяли турецкого посла, втоптанного в болото, и посла от константинопольского патриарха, присланного к Хмельницкому с благословением на войну и с освященною на Господнем Гробе саблею. Из коринфского митрополита, Иоасафа, поляки сделали александрийского патриарха, Евдоксия, даже константинопольского патриарха, «или, вернее, обманщика (albo raczej impostora)»... О нем рассказывают и в наше время польские историки, что он рассчитывал на свою величественную бороду и на важность своего сана, как на оборону от смерти. Он де вышел в золотом облачении, в огромной митре из красного бархата, покрытой кругом кусками золота в виде крестов, сопровождаемый священством, крестами, свечами, церковными хоругвями; но ему тем не менее отсекли голову. Это бумагочернильное утешение подобает нам предоставить нашим иноверным завистникам, хотя бы в действительности смерть постигла Иоасафа без всякого народа. Казаки наши, будучи на их месте, говорили бы то же самое z uсiecha о смерти бискупа и арцыбискупа в панической давке, а тем еще паче, когда бы злостная фантазия вмешала в эту давку римского папу, которого наши православники, подзадоренные протестантами, давно уже заклеймили не только именем обманщика, но и антихриста, предоставляя потомству судить, кто насколько действовал обманом и поступал противно учению Христа. Польская историография включила и митрополита Сильвестра Косова в число беглецов, ускользнувших из казацкого табора. Но Хмель не мог держать Коса в своем походе под надзором казацкой полиции; а что Кос не веровал в его фортуну, или гнушался его подвигами, видно из его письма к Радзеёвскому. «Лишь только долетело до меня перо вашей милости» (писал он), «в тот же момент (in eodem jtundo) послал я к его милости пану гетману запорожскому свои отсоветования от войны во внутренности отечества (dissuasorias od wojny in visceribus palriac). Ответ получил я вот какой» (и прописал его целиком).
Весь церковный аппарат, вместе с тремя колоколами, печатью Запорожского войска и серебряным портфелем Хмельницкого, уцелел от расхищения, как трофей панской победы. В портфеле Хмельницкого хранились: султанский диплом на русское княжество, договор с Ракочием, войсковой реестр, счет приходам и расходам. Если бы в бумагах беглого гетмана были найдены следы казни гетманши, пани Чаплинской, то об этом разгласил бы сам король z wielka uciecha. Но вместо утешительных для панов и их коронованного совместника находок, оказалась находка весьма печальная и постыдная: в казацкой канцелярии были открыты сеймовые диариуши и специальные реляции всего, что ни делалось наисекретнейшего на сеймах, на сенаторских радах и даже в королевских покоях. «Доблестные поляки» Оссолинского продавали разбойнику свое «свободное королевство, охраняемое» (по словам знаменитого канцлера) «стеною любви к отечеству и взаимного доверия». Хмельницкий (возьму здесь меткое слово казацкого Самовидца) «смазывал им шкуру их же собственным салом»: грабя у них золото, платил им этим золотом за предательство милой отчизны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

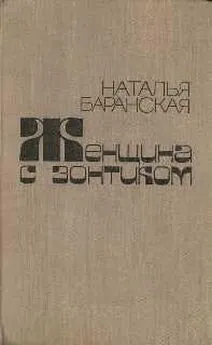
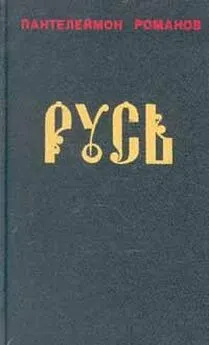
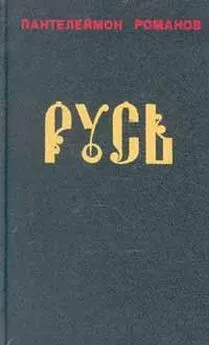




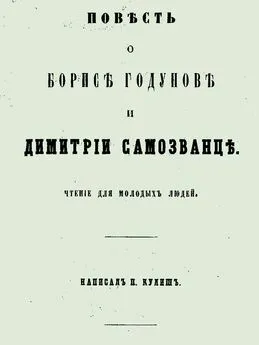
![Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/1100112/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom.webp)
