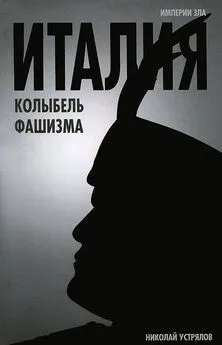Николай Устрялов - Италия — колыбель фашизма
- Название:Италия — колыбель фашизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0221-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Устрялов - Италия — колыбель фашизма краткое содержание
Слово «фашизм» традиционно ассоциируется с Германией 1933–1945 годов. Это было связано с типично советской точкой зрения, которая видела в режимах Гитлера и Муссолини единую силу, являющуюся реакцией на победное шествие коммунистической идеологии. В режимах Гитлера и Муссолини действительно много общего. Однако и много различий, что, кстати, признавал и Гитлер.
Итальянский фашизм стал первым опытом власти «партии нового типа» некоммунистической направленности, и в этом смысле явился предшественником нацизма. Поэтому фашизм в точном смысле идеологии есть прежде всего явление итальянское. О чем миру одним из первых поведал наш соотечественник – социолог, теоретик и представитель правого национал-большевизма Н. В. Устрялов (1890–1937).
«Только кровь дает бег звенящему колесу истории», – говорил Муссолини. Италия под началом этого диктатора надеясь на колониальный передел мира. К чему это привело Муссолини и его народ, все хорошо знают. Для читателя же особую ценность представляет повествование свидетеля той эпохи о зарождении и становлении фашизма в Италии, – стране, где каждый камень, каждое дерево, каждый цветок пропитан историей.
Италия — колыбель фашизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот данные об итальянцах вне Италии:
1881 г. в Европе 380,352 (36,84 %), в Африке 62,203 (6,02 %), в Азии 7,531 (0,73 %), в Океании 2,971 (0,29 %), в Америке 579,335 (56,12 %), итого 1,032,392.
1891 г. в Европе 461,843 (23,29 %), в Африке 75,212 (3,79 %), в Азии 8,602 (0,43 %), в Океании 4,365 (0,22 %), в Америке 1,433,184 (72,27 %), итого 1,983,206.
1901 г. в Европе 654,053 (19,56 %), в Африке 167,837 (5,02 %), в Азии 10,643 (0,32 %), в Океании 6,141 (0,18 %), в Америке 2,505,876 (74,92 %), итого 3,344,548.
Это свидетельствует о неудержимом сокращении эмиграции в Европу и о решительном перенесении центра тяжести ее в Америку. К 1908 году общая цифра итальянских эмигрантов уже превышала пять миллионов человек, причем тяготение к Новому Свету проявлялось с возрастающей очевидностью. Словно образовались «итальянские колонии без итальянского флага», и находились уже романтики, которые готовы были видеть в мирной колонизации Южной Америки чуть ли не бескровное осуществление мечтаний о Magna Italia, создание «второго итальянского отечества». Но с точки зрения национально-государственной такой романтизм, разумеется, не выдерживал никакой критики.
Английская колонизация делала мир английским: с колонистами приходил английский флаг, или, по крайней мере, английский язык. Италия явилась в современный мир поздно – она пропустила сотни удобных случаев и миллионы квадратных километров земли. Вместе с тем она не имела за собою и качеств британской крови – ни гордой непреклонности первого в мире правительства, ни холодной настойчивости смелого, предприимчивого народа. Не отважные викинги, не рыцари наживы, охваченные жадностью, и не рыцари крестовых походов, пронизанные идеей, – были пионерами итальянской эмиграции; ими были безвестные и безродные бедняки, спасавшиеся беженством от нужды. Они шли не править, не господствовать, а повиноваться, изворачиваться, служить ради куска хлеба. Они стремились в чужие, крепкие государства, в края, дышащие, как им казалось, обильем, и не несли с собою ни итальянской культуры, ни итальянской государственности. И как редко могли они похвалиться хорошим отношением к себе на новых местах! Сколько унижений, недружелюбия, подчас заслуженного, даже враждебности приходилось им переживать! Взять хотя бы положение итальянских поселенцев в Тунисе, кем-то остроумно названном «итальянской колонией, возглавляемой французами». На 35 тысяч французов в 1910 году там жило 125 тысяч итальянцев, занимавшихся плодотворным хозяйственным трудом в этой цветущей колонии. И непрестанно терпели они всяческие стеснения [2]. В 1896 г. Франция заключила даже специальное соглашение о неувеличении итальянских школ в Тунисе. Но с 1896 до 1910 число итальянских обитателей Туниса утроилось; им оставалось посылать детей во французские школы, да и это бывало не так легко. Итальянские рабочие также претерпевали различные ущемления по сравнению с французскими. То же, и еще более, землевладельцы. Нечего говорить, что французский капитал пользовался повсюду исключительными льготами. И лишь война 1914 г. принесла итальянскому населению Туниса ряд облегчений, обусловленных соображениями тогдашней большой политики.
Понятно, что проблема эмиграции должна была волновать и волновала итальянское правительство. Бороться с непродуктивным отливом излишка населения можно было различными средствами: интенсификацией земледелия, запрещением оставлять земли необработанными, заселением болотистых мест (внутренняя колонизация) и т. д. Но все это паллиативы. Значительно более действительное средство – форсированная индустриализация страны: путь предвоенной Германии. «Для растущего народа, – писал Науманн, – есть лишь один способ избегнуть нищеты: он должен стать народом машин». К XX веку Италия тоже вступила на этот путь промышленного, машинного развития. Но он был ей труден: бедная железом и особенно углем, лишенная промышленных навыков и традиций, она принуждалась выдерживать конкуренцию на мировом рынке с гигантами современного капитализма. Реальная плотность ее населения (т. е. за вычетом непригодных земель) уже в 1910 году превысила 175 человек на квадратный километр, в то время как ее народное хозяйство могло удовлетворительно прокормить, в сущности, не более половины этого количества. Рост населения безостановочно продолжался (4 рождения на один брак), свидетельствуя о жизнеспособности народа, но тем настоятельнее требовала разрешения проблема эмиграции. Выход намечался с неумолимой необходимостью: Италии нужны свои колонии.
Ей нужны колонии для экспорта избыточного населения: «империализм бедняков». Ей нужны колонии и для развития национальной промышленности и, мало того, даже для воза продуктов первой необходимости, которых ей у себя тоже недостает [3]. Сама история толкает ее на торную дорогу активной империалистической политики. Не она первая, не она, конечно, и последняя: на наших глазах Япония переживает во многом аналогичный процесс. Жизнь – борьба. Несправедливо, что «поздно приходящие» остаются за флагом. Если есть борьба классов, то не менее закономерна и борьба рас, наций, государств. Обидно, что народы-господа, нации-плутократки высокомерно повелевают международному хозяйственному и политическому рынку. Не за горами – переоценка исторических ценностей!
Так год за годом, движимая непреклонными экономическими импульсами, развивала в себе боевое националистическое сознание итальянская государственность. Всем здоровым нациям присущ инстинкт экспансии, свойственна «воля к мощи». Сильный народ носит в самом себе логику собственного роста, и место его в мире определяется не замкнутым кругом формальных правовых императивов, а бесконечным и существенным разумом истории. Гегель прав в своем гениальном изречении: «всемирная история – всемирный суд».
В итальянском империализме звучат оригинальные ноты своего рода «пролетарской» борьбы: империализм трудящихся классов, жизненно заинтересованных в расширении отечества. Любопытно, что идея «своих колоний» была привита общественному мнению Италии в значительной мере социалистами: Лабриола высказывал ее еще в 1902 году, указывая на Триполи. Как во времена Risogrimento тесно переплетались мотивы национального и социального освобождения, так и теперь империалистическая тенденция окрашивалась в освободительный цвет. «Что социализм для пролетариата, то для итальянцев – национализм: орудие освобождения от нестерпимого гнета. Что пролетариату буржуазия, то для нас французы, немцы, англичане, американцы, будь то аргентинцы или янки: богачи – вот наши враги» (Коррадини). Итальянская эмиграция таскает каштаны для чужих богачей; – она должна работать на себя, на Италию!
Таков индивидуальный облик современного итальянского великодержавия. Как некогда крылатый Эрос греков был сыном Пороса и Пении, обилия и скудости, – так нынешний итальянский империализм, национальный эрос нового Рима, отображает собою одновременно и внешнюю бедность итальянского народа, и богатство таящихся в нем внутренних сил.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: