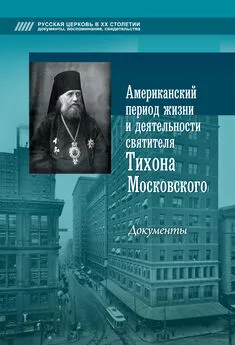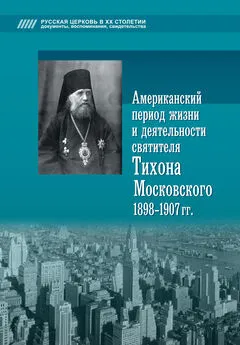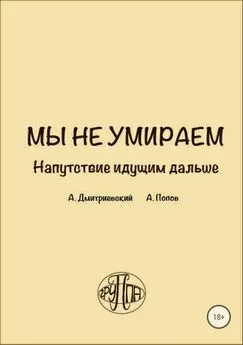Алексей Дмитриевский - Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)
- Название:Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Индрик
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-097-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Дмитриевский - Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина) краткое содержание
У каждого большого дела есть свои основатели, люди, которые кладут в фундамент первый камень. Вряд ли в православном мире есть человек, который не слышал бы о Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Отца Макария привел в него Божий Промысел. Во время тяжелой болезни, он был пострижен в схиму, но выздоровел и навсегда остался на Святой Горе. Духовник монастыря о. Иероним прозрел в нем будущего игумена русского монастыря после его восстановления. Так и произошло. Свое современное значение и устройство монастырь приобрел именно под управлением о. Макария. Это позволило ему на долгие годы избавиться от обычных афонских распрей: от борьбы партий, от национальной вражды. И Пантелеимонов монастырь стал одним из главных русских монастырей: выдающаяся издательская деятельность, многочисленная братия, прекрасные храмы – с одной стороны; непрекращающаяся молитва, известная всему миру благолепная служба – с другой. И, наконец, главный плод монашеской жизни – святые подвижники и угодники Божии, скончавшие свои дни и нашедшие последнее упокоение в костнице родной им по духу русской обители.
Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Суровая жизнь немногочисленных отцов Синайской обители, отдаленнейшей от цивилизованных центров, производила на Михаила Ивановича глубокое впечатление. Заброшенные в дикую каменистую пустыню, сдавленные величавыми исполинами окружающих гранитных гор, иноки Синайской обители ведут суровый аскетический образ жизни, исполненный нередко лишений в самом насущном: убого одеваются, стол имеют зачастую из хлеба и разного рода злаков, возделываемых с изумительною энергиею в небольшом садике близ монастыря, и делят все свое время между тяжелым трудом и молитвою в храме. Особого рода аскетические подвиги, как например, ношение вериг на теле и лишение себя необходимой одежды для прикрытия своей наготы и т. п., производили и прежде на Михаила Ивановича сильное впечатление, а теперь, благодаря высокорелигиозной настроенности, обаяние от подобного рода подвигов было положительно неотразимое. Наблюдая простоту в костюме синайских иноков вообще, а в некоторых случаях даже полное лишение его, как например, в лице синайского монаха, который по временам или не надевал никакой одежды, или же рвал имевшуюся на нем одежду и в монастыре и в пустыне ходил нагой, Михаил Иванович стал задумываться над своей страстью к щегольству. Под влиянием этих дум он переменил свой франтовской костюм на простой нанковый халат, сшитый ему искусной рукой вышеназванного подвижника о. Николая, и в таком виде не постеснялся даже предстать перед нашим консулом в Каире. О. Пахомий рассказывает об о. Макарии такой эпизод. Когда Михаил Иванович вернулся в Каир с Синая, то немедленно отправился к консулу, чтобы получить там сведения о деньгах и письмах, присланных на его имя из России. «Есть письма на имя Сушкина из России?» – робко осведомился скромный Михаил Иванович консула. «Да, есть письма на имя почетного гражданина М. И. Сушкина, а вы кто такие?» – спросил тот в недоумении, вглядываясь в странный костюм незнакомца. «Я почетный гражданин Сушкин», – конфузливо удостоверил свою личность Михаил Иванович. Изумление на лице консула было заключительным актом этой любопытной сцены, причем Михаил Иванович, по словам о. Пахомия, получил из рук консула целый мешочек адресованных на его имя писем.
Не оставлял в это время без внимания Михаил Иванович и других особенностей своего живого и впечатлительного темперамента, а старался и их урегулировать, дать им целесообразное направление и даже прямо боролся с ними. Впечатлительный от природы, он сильно волновался, видя нерасторопность своего слуги Евграфа, и нередко даже бранил его, но затем, когда проходил его гнев, он прощал вину своего любимца и был к нему весьма любезен и снисходителен. Заметив эту черту характера в своем хозяине, Евграф положительно злоупотреблял ею, особенно во время возвращения с Синая. По словам того же о. Пахомия, на остановках, утомленный зноем пустыни и тяжелой ездой на верблюде, Михаил Иванович должен был руками расставлять себе палатку и даже готовить чай, тогда как его Евграф, распластавшись по земле, спал сном праведника, не отказываясь в то же время ни от шатровой тени, ни от живительного стакана чая, который в безводной знойной пустыни является для путешественника истинным благодеянием. «Смешно было смотреть, – говорит о. Пахомий, – на это превращение господина в слугу и слуги в господина». Но Михаил Иванович, поволновавшись несколько, через минуту все забывал и ехал снова как ни в чем не бывало, мирно и спокойно, любя всей душой своего легкомысленного Евграфа [37].
Но все духовно-аскетические упражнения, которым доселе предавался молодой энтузиаст, были плодом его внутренней религиозной настроенности и отчасти его знакомства с аскетическими сочинениями святых отцов, которые он любил читать еще в детстве. Все они вытекали хотя просто и естественно, без всякого внешнего стороннего побуждения, были чисты и искренни, но им предавался Михаил Иванович без соблюдения меры и даже благоразумной постепенности. Вот почем у не на ходил он себе единомышленников ни в Одессе среди своих товарищей, из коих многие потом сделались прекрасными монахами, ни тем более среди своих синайских спутников. Михаил Иванович, сталкиваясь ежедневно с людьми, посвятившими себя аскетизму, который во многом не походил на его представление об этом подвиге, инстинктивно чувствовал потребность найти опытного «старца-учителя», который бы мог указать настоящий истинный путь к аскетизму, идя по которому он бы не изнемогал и не отчаивался в достижении цели, а постепенно, хотя и не без труда, совершенствовался бы и приближался бы к ней. Такого именно опытного старца учителя он и нашел в лице отца Иеронима, духовника русского Пантелеимоновского монастыря, когда прибыл на Афон.
Из А лександрии на Афон Михаил Иванович ехал через Смирну и Солунь на пароходе, а оттуда на Святую Гору сухопутно. В Пантелеимоновский монастырь он прибыл вечером 3 ноября 1851 года и был весьма ласково встречен игуменом – архимандритом Герасимом и духовником Иеронимом, которые уже заранее были извещены о приезде к ним столь дорогого для них паломника.
Глава IV
Краткий исторический очерк русского Пантелеимоновского монастыря ко времени пострижения в нем о. Макария
Трудные и тяжелые времена переживала русская Афоно-Пантелеимоновская обитель, когда переступил порог ее порты скромный молодой энтузиаст-паломник, будущий знаменитый ее игумен.
С 1735 года греческий элемент в этой обители взял окончательный перевес над русским, который мало-помалу совершенно был вытеснен из нее [38]. Новые насельники монастыря греки оставили прежний строгий киновиальный образ жизни и учредили идиоритм [39].
Многоначалие, вызываемое самым строем новой монастырской жизни, в виде соборного управления представительными старцами монастыря (проэстосами), которые погодно и по очереди передают свою власть из рук в руки, как в наше время, так и в прошлом столетии не способствовало процветанию монастырей, а вело всегда и ведет ныне к упадку материального благосостояния, строгой монашеской дисциплины, к водворению в них внутренних беспорядков и неустройств, мешавших правильному и мирному развитию обителей. Русская Пантелеимоновская обитель не явила собою счастливого исключения, а пошла обычною дорогою, которая привела ее к обнищанию и полнейшему разорению. В 1803 году афонский Протат [40] , принимая во внимание крайне бедственное состояние русского монастыря, которому на Карее [41] не было доверия даже на 20 пиастров (около 1 р. 50 к. сер.), порешил уже было исключить этот монастырь из списка святогорских монастырей, земли, ему принадлежащие, продать для уплаты тяжелых долгов, лежавших на этом монастыре, а оставшийся денежный избыток употребить на общественные нужды прочих афонских монастырей. Но этому тяжелому приговору карейского Протата не суждено было осуществиться. Русский Пантелеимоновский монастырь неожиданно нашел себе заступника и покровителя в лице Вселенского Патриарха Калинника, всегда не сочувствовавшего идиоритмам. Он стал на сторону св. Пантелеимоновского монастыря и старался доказать киноту Святой Горы, что нетактично и неполитично уничтожать русскую обитель в то время, когда Россия своими последними войнами с Турциею приобрела решающее значение на судьбу восточных христиан. Устройство и приведение в надлежащий порядок расстроенных монастырских дел в Руссике было возложено Святейшим Патриархом на благочестивого, уже преклонных лет, но энергичного и опытного старца, иеромонаха Ксенофской обители Савву, который, желая оправдать оказанное ему доверие со стороны Вселенского Патриарха, ревностно принялся было за порученное ему дело и много даже сделал добра обители но, за смертью, не успел довести до конца всех своих благих намерений. Наступившие вслед за тем волнения на Святой Горе, по случаю греческого восстания за свою независимость в 1820–1821 годах, понудили многих мирных святогорцев покинуть свои монастыри и искать приюта за чертою Святой Горы. После заключения мира в 1830 году собравшаяся малочисленная и бедная братия русского Пантелеимоновского монастыря во главе с своим игуменом Герасимом [42], преемником Саввы, по совету мудрого старца иеродиакона Венедикта, решилась пригласить в монастырь русских иноков, чтобы с их помощью устроить обитель.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: