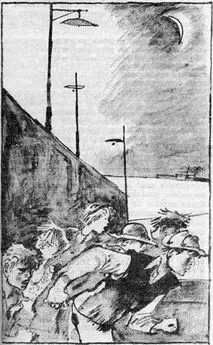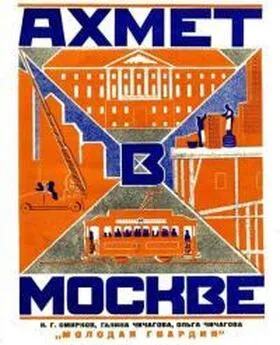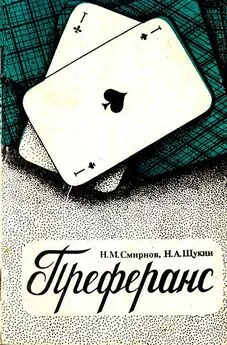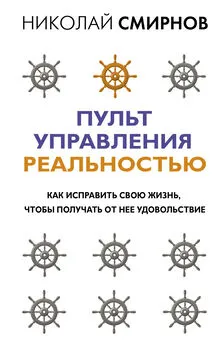Николай Смирнов - Рапава, Багиров и другие. Антисталинские процессы 1950-х гг.
- Название:Рапава, Багиров и другие. Антисталинские процессы 1950-х гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АИРО-XXI
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-91022-274-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Смирнов - Рапава, Багиров и другие. Антисталинские процессы 1950-х гг. краткое содержание
В книге заслуженного юриста России рассказывается о процессах, состоявшихся после смерти И. Сталина, на которых были осуждены непосредственные исполнители репрессий против своего собственного народа. Автор, бывший секретарем судебного присутствия на Тбилисском процессе 1955 г. (А. Рапава и другие) и Бакинском процессе 1956 г. (М. Багиров и другие), оперируя фактами, показывает бесчеловечность созданной сталинским режимом машины преследования неугодных. Она использовалась и во внутрипартийных разборках и для чистки аппаратов силовых структур. Но в абсолютном большинстве случаев ее жертвами становились обычные советские люди — рабочие, инженеры, колхозники, деятели культуры. Пытки, порой весьма изощренные — неотъемлемые элементы этой машины. Автор показывает, к каким страшным последствиям может привести вера в непогрешимость одного человека, отсутствие нормально функционирующей правовой системы, контроля общества за силовыми структурами.
Для широкого круга читателей.
Рапава, Багиров и другие. Антисталинские процессы 1950-х гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Затем выступили защитники которые в своих речах оспаривали лишь некоторые эпизоды обвинений, вменённых их подзащитным. В то же время они обращали внимание суда на необходимость учёта при вынесении приговора обстановки, сложившейся в 1937–1938 гг. не только в Грузии, но и во всей стране, когда до указанию сверху начался разгул беспримерного беззакония. Обращалось внимание и на роль Берии, который мог потребовать беспрекословного выполнения любого своего распоряжения. Адвокаты указывали, что ответственность за совершенные преступления должны разделить и другие лица, причастные именно к тем преступлениям, которые вменялись в вину подсудимым. В частности, назывались фамилии допрошенных в суде Давлианидзе, Пачулиия Г.А. и других.
Защитники соглашались с тем, что содеянное их подзащитными следует квалифицировать по ст. ст. 58–8 и 58–11 УК РСФСР, но все они решительно возражали против квалификации действий подсудимых также и по ст. 58–1 «б». Обосновывая свою позицию, защитники ссылались на необходимость доказать, что действия подсудимых совершались в ущерб военной мощи СССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории. Об этом могли свидетельствовать шпионаж подсудимых в пользу иностранных государств, выдача военной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелёт за границу. Именно при наличии одного из перечисленных условий содеянное могло квалифицироваться как измена Родине. Поскольку подсудимые не совершали указанных действий, утверждали защитники, нет оснований квалифицировать содеянное ими по данной статье.
С этими доводами было трудно не согласиться. Действительно, перечисленных в законе действий, образующих состав преступления, предусмотренный ст. 58–1 «б» УК РСФСР, подсудимые не совершали, а поэтому и не было оснований квалифицировать содеянное ими по данной статье закона. Замечу, что действия осужденных впоследствии других бывших ответственных сотрудников НКВД-МВД-МГБ Грузии, совершивших но существу такие же преступления, что и подсудимые на процессе Рапавы, Рухадзе и других, не квалифицировались как измена Родине. Не квалифицировались их действия и по ст. 58–11 УК РСФСР. Защитники же по делу Рапавы, Рухадзе и других подсудимых на процессе квалификацию действий своих подзащитных не оспаривали, хотя оснований к этому было более чем достаточно. Здесь сказался ситуационный стереотип, владевший в то время не только государственным обвинителем и защитниками, но и судом.
Защитники Савицкого, Парамонова, Хазана и Кримяна обратили внимание суда на необходимость применить к их подзащитным положения ст. 14 УК РСФСР, согласно которым уголовное преследование не может иметь места, когда со времени совершения преступления, за которое судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет, прошло 10 лет и более. В тех же случаях, когда виновные привлекаются к уголовной ответственности за контрреволюционные преступления, давность применяется по усмотрению суда, однако в примечании 1-ом к ст. 14 УК РСФСР говорится: если суд не найдёт возможным применить давность, то при назначении судом виновному расстрела, таковой обязательно заменяется другими мерами наказания.
Защитники названных подсудимых указали, что со времени совершения преступлений их подзащитными прошло значительно больше 10 лет. После этого они не совершали никаких преступлений, и поэтому, по их мнению, к Савицкому, Кримяну, Хазану и Парамонову не может быть применена высшая мера наказания расстрел.
Годом позже — 8 сентября 1956 г. при рассмотрении в кассационном порядке дела Пачулиия Г.А. Военная коллегия Верховного Суда СССР по указанным основаниям его расстрел заменила на длительный срок лишения свободы (подробно об этом деле рассказано в третьей главе книги).
В заключение своих выступлений защитники просили о сохранении жизни их подзащитным. Кроме указанных оснований, они ссылались и на некоторые данные, характеризующие личность подсудимых. Так, в отношении Церетели защитник просил учесть его сложную и многотрудную жизнь. Хотя он был выходцем из дворянской семьи, но никакими дворянскими благами не пользовался. Он был брошен родителями, и с малых лет познал изнурительный физический труд, Он так и остался почти неграмотным человеком. Церетели активно боролся с бандитизмом в Грузии, боях с бандитами был четырежды ранен.
Защитник Парамонова обратил внимание суда на то, что Парамонов в августе 1937 — октябре 1938 гг. в качестве стажёра был помощником у Савицкого, с которого, а также с других сотрудников НКВД Грузии брал пример, применяя физические меры воздействия к арестованным.
В отношении Рухадзе защитник просил учесть, что подсудимый тяжело болен и раскаялся в содеянном.
После выступления защитников суд выслушал последние слова подсудимых, которые по существу не отрицали совершение вменённых им в вину действий. Но вместе с тем они отвергали какую-либо свою причастность к заговорщицкой группе Берии, не считали себя близкими ему людьми. Не признавали они себя виновными и в измене Родине. Рапава же вообще считал, что он не совершал никаких преступлений, поскольку вменённые ему в вину действия обусловливались сложившейся в то время обстановкой, когда он вынужден был выполнять поступавшие к нему указания. Он не мог отказаться от участия в заседаниях тройки при НКВД Грузинской ССР. В связи с этим Рапава просил в отношении его вынести оправдательный приговор.
Надарая также считал, что он не совершал никаких преступлений и просил учесть это при вынесении приговора.
Остальные подсудимые не отрицали своей вины, но просили о сохранении им жизни, приняв во внимание обстановку, в которой ими совершались преступления, приведшие к тяжким последствиям, а также их раскаяние в содеянном. Кримян, Савицкий, Хазан и Парамонов просили учесть и то, что после совершения ими преступлений прошло более пятнадцати лет, и в течение этого времени они добросовестно трудились.
Выслушав последние слова подсудимых, в 20 часов 45 минут 18 сентября 1955 г. суд удалился на совещание для вынесения приговора.
В 11 часов 19 сентября суд возвратился из совещательной комнаты, и председательствующий огласил приговор. А.Н. Рапава, Н.М. Рухадзе, Ш.О. Церетели, К.С. Савицкий, Н.А. Кримян, А.С. Хазан, Г.И. Парамонов и С.Н. Надарая были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 58–1 «б», 58–8 и 58–11 УК РСФСР. Рапава, Рухадзе, Церетели, Савицкий, Кримян и Хазан были приговорены к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией имущества, Парамонов и Надарая — к лишению свободы соответственно на 25 и 10 лет также с конфискацией имущества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
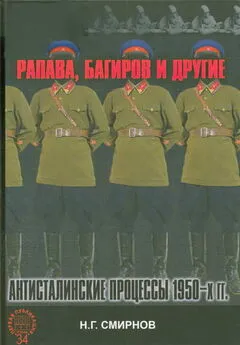

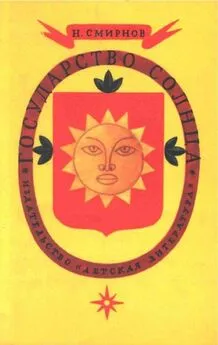


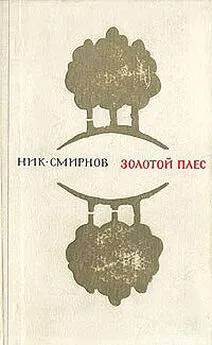
![Николай Смирнов - Джек Восьмеркин американец [Первое издание, 1930 г.]](/books/477170/nikolaj-smirnov-dzhek-vosmerkin-amerikanec-pervoe.webp)