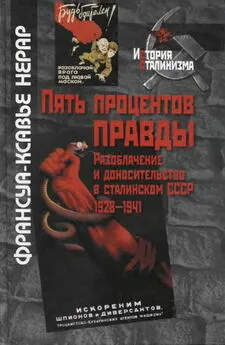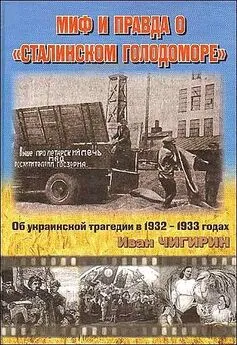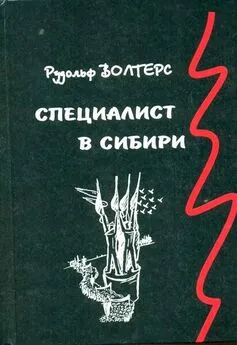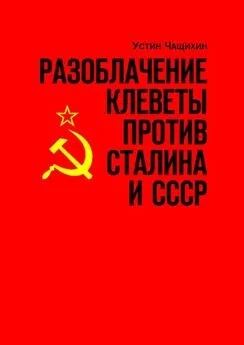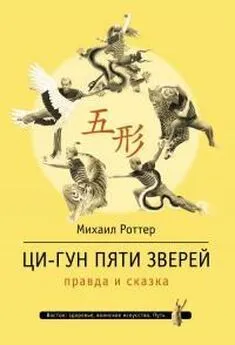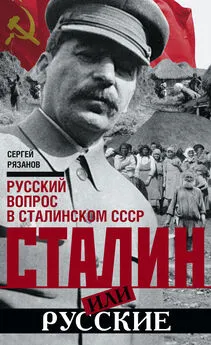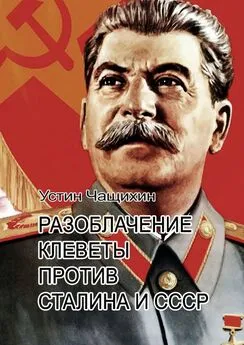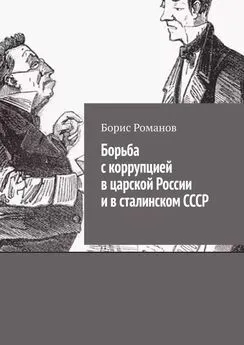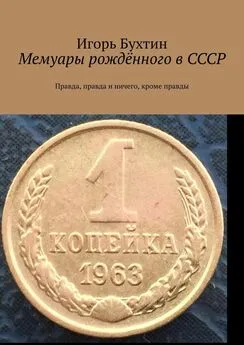Франсуа-Ксавье Нерар - Пять процентов правды. Разоблачение и доносительство в сталинском СССР (1928-1941)
- Название:Пять процентов правды. Разоблачение и доносительство в сталинском СССР (1928-1941)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РОССПЭН
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978-8243-1547-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франсуа-Ксавье Нерар - Пять процентов правды. Разоблачение и доносительство в сталинском СССР (1928-1941) краткое содержание
В книге предпринята попытка понять, какое место в советском сталинском обществе занимал феномен доносов и разоблачений — как в кризисные моменты, так и в моменты относительного спокойствия. Какова роль семейных и родственных отношений в подобной практике? Доносы и разоблачения (и добровольные, и по принуждению) считались поддержкой режима, сотрудничеством с ним. Были ли такие поступки корыстными? В какой мере доносительство было необходимо государству и отдельным гражданам? Идет ли здесь речь о доносе в полном смысле этого слова?
В намерения автора не входит реабилитация доносчиков и доносительства в СССР. В книге делается попытка очертить границы этого явления и описать его максимально объективно. Книга представляет интерес как для исследователей-историков, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей России.
Пять процентов правды. Разоблачение и доносительство в сталинском СССР (1928-1941) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такой порядок обеспечен нормативными актами властей, которые регулярно издают юридические документы, уточняющие порядок совершения обязательного доноса. После Уложения 1649 года в течение XVIII века было выпущено несколько указов. Так, в целом ряде из них — 1724, 1726, 1730, 1733, 1751, 1752 и 1762 годов содержатся ограничения на ложные доносы, уточняются различные меры наказания, которым могут быть подвергнуты слишком ретивые обличители (кнут, пытка и пр.). Проблема тем не менее остается неразрешенной, поскольку в других документах государство подталкивает своих подданных на то, чтобы доносить по самым разным поводам. Анисимов различает как минимум восемь сфер жизни, по которым с 1724 по 1760 год был издан указ, призывающий к доносительству, это кражи и разбой, контрабанда, сокрытие душ во время ревизии, несоблюдение монополий на юфть, щетину и соль, торговлю золотом в неразрешенных местах, тайную продажу ядов {77} 77 Там же. С. 172.
.
Расширение практики
Итак, доносительство поощряется властью двояко: с одной стороны, позитивно — наградами (в виде звонкой монеты или почетных званий) для доносчиков, с другой — негативно, поскольку, как мы видели, недоносительство строго карается. Можно предположить, что в все российское население — в той или иной мере — имело отношение к этому явлению, во всяком случае, именно это чаще всего утверждает историография. «Изветчиками были люди самых различных социальных групп и классов, возрастов, национальности, вероисповедания, с разным уровнем образованности, от высокопоставленного сановника до последнего нищего. Доносчики были всюду: в каждой роте, экипаже, конторе, доме, застолье» {78} 78 Там же. С. 187.
.
Представляется, например, что крепостные регулярно пользовались {79} 79 Там же. С. 189–194. В этом случае автор также не приводит убедительных данных. Он лишь отсылает к другому исследованию, основанному на шестидесяти пяти доносах, полученных с 1695 по 1708 год, что далеко не является показательным (см.: Там же. С. 205).
этим оружием против своих владельцев, обвиняя их в тех или иных злостных речах, произнесенных против царствующего государя. Это могло быть идеальным способом мести слишком жестокому или несправедливому хозяину. Каков был реальный размах этого феномена? Трудно сказать. Можно ли считать, что «каждое слово господина, где бы оно ни было сказано — в поле, в нужнике, за обедом, в постели с женой, — слышали, запоминали (иногда даже записывали) дворовые» {80} 80 Там же. С. 192.
? Вероятно, утверждающие это авторы заходят слишком далеко.
Подобная практика имеет место не только в XVIII веке, поскольку требование доносить последовательно ужесточается в 1832, 1845 и 1903 годах: увеличивается число преступлений, о которых должно сообщать (всякое задуманное или совершенное преступление), и количество людей, доносить обязанных (чиновники и вообще любой взрослый человек) {81} 81 Миронов В.Н. Социальная история России периода империи. С. 13.
.
Право в царской России принимало донос во внимание. До реформы 1864 года нормы ведения уголовного процесса обязывали выслушать немедленно автора доноса (не требуя от него клятвы). Даже если «заявление» не содержало доказательств, его следовало вписать в протокол «для сведения» {82} 82 Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. Статья «Донос».
. Важность доноса уменьшается после реформы 1864 года, но по-прежнему остается значительной {83} 83 Там же.
. Донос, как правило, является основанием для расследования только в том случае, если доносящий был свидетелем событий. В противном случае уголовным кодексом предусматривается заведение дела лишь в случае, если донос «содержит доказательства правдивости обвинения» (статьи 298, 299 и 303). Одновременно статья 300 кодекса предусматривает, что анонимный донос остается без последствий. В некоторых случаях анонимные сообщения могут стать основанием для полицейского розыска или дознания, которое, в свою очередь, может стать основанием для начала следствия. Тем не менее, как и до 1864 года, недонесение остается деянием, наказуемым по закону [24] Dénonciation (фр.) переводится и как разоблачение, и как донос (прим. пер.).
.
Помимо нормативных документов, мы имеем также свидетельства писателей конца XIX века, которые критикуют подобную практику [25] В XIX веке, видимо, получает развитие моральная критика доносительства. Эта критика особенно развита в интеллигентских и образованных кругах. С.А. Королев приводит среди прочих примеры из жизни Достоевского и Герцена (Донос в России. С. 41–44).
и представляют ее размах. А.Н. Энгельгардт в своих письмах «Из деревни» (1872–1887) так описывает это широко распространенное явление:
«Когда появились злонамеренные люди, то развелось такое множество охотников писать доносы, что, я думаю, целые массы чиновников требовались, чтобы только перечитывать все доносы, все хотят выслужиться, авось, либо крайчик пирожка попадет, если открытие сделать. Чуть мало-мальски писать умеет, сейчас доносы пишет. Совсем начальников загоняли, особенно кому в стан попадет подозрительный человек, который ни с кем не знается, в земстве не участвует, занимается каким-то хозяйством, клевер какой-то сеет, с мужиками никаких судебных дел не имеет. Тут доносов не обобраться» {84} 84 Энгельгардт А.Н. Из деревни: 12 писем. 1872–1887. М, 1987. С. 433.
.
Эти наблюдения также широко подтверждаются практикой доносов в религиозной сфере в конце XIX века {85} 85 Burds J. A Culture of Denunciation… С. 45–53.
. Объектом здесь являются прежде всего крестьяне, на время покидающие свою деревню. Удаляясь от родного дома, многие из них не соблюдают более столь строго религиозных православных обрядов (некоторые принимают Старую веру, другие вообще забывают об исповеди, иконах, браке, крестинах). В этом случае, согласно Д. Бердсу, речь идет о своебразном социальном контроле: члены семьи, чувствуя, что кто-то из своих ускользает от их влияния, обращаются к священнику, который теперь, со времен Петра Великого, не связан более тайной исповеди. Тем не менее трудно говорить столь уж категорично. Язык религии используется в самых различных случаях для урегулирования проблем и ослабления социального напряжения, порожденного потрясениями конца XIX века. Больше всего доносов делается на сезонных рабочих {86} 86 Там же. С. 70.
: [26] Речь идет об «отходниках».
вероятнее всего, они просто становятся козлами отпущения. На них концентрируется недовольство, связанное с изменениями. Бердс отмечает также, что не удовлетворенные действиями священников (результаты доносов незначительны), крестьяне все чаще и чаще обращаются к представителям государства {87} 87 Там же. С. 62.
.
Интервал:
Закладка: