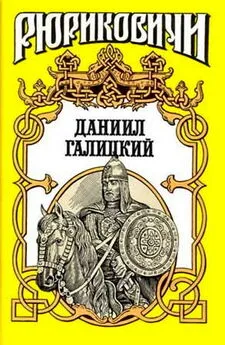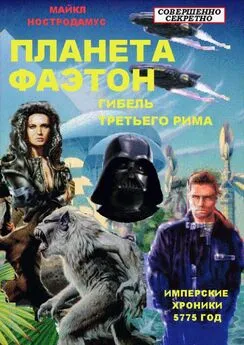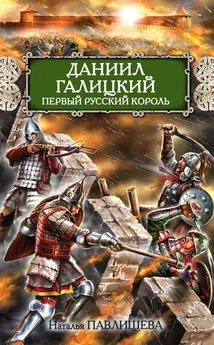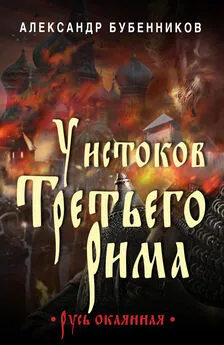Владимир Ларионов - Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима
- Название:Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-4444-3168-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Ларионов - Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима краткое содержание
Книга предлагает принципиально новый взгляд на личность и деяния князя Александра Невского. Автор рассматривает князя одновременно с позиции светской историософии и православной традиции.
Читатель узнает о политической тактике Невского, его осведомленности о мировых исторических процессах того времени и, наконец, о его прозорливости как в вопросах выстраивания отношений с Золотой Ордой и агрессивными западными соседями Руси, так и в вопросах духовного характера, о которых мало пишут не только светские, но и церковные историки.
Особое внимание автор уделяет крупному политическому деятелю и полководцу — князю Даниилу Романовичу и его отцу князю Роману Мстиславичу Галицким. В книге раскрывается ряд важных причин, по которым князь Даниил не стал ключевой фигурой русской истории.
Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кожух Даниила Романовича, сшитый из пурпура, представлял собой одеяние действительно примечательное и даже исключительное. Пурпур высшего качества в Византии на протяжении веков составлял исключительную привилегию императорских особ с X века одежды из царского пурпура, оловира, как и любые ткани, окрашенные в пурпур, были запрещены к продаже иностранцам и вывозу за границы империи. Из трактата императора Константина Багрянородного мы узнаем, что царская пурпурная одежда имела сакральное значение и потому передать такую одежду кому-либо еще означало поделиться с этим лицом частью верховной власти. Константин Багрянородный предупреждал своих наследников, что чести получения императорского пурпура исстари добиваются архонты хазар, венгров и руссов. Но им надлежало отказывать под любым, даже самым надуманным, предлогом. Именно по этой причине немецкие послы в 1252 г. увидели в царском одеянии Даниила посягательства на прерогативы их собственного государя — императора Священной Римской империи. Необходимо отметить, что свой царский облик Даниил явил еще до того, как он принял королевскую корону от папы римского. К тому же принятие короны также не могло санкционировать возможность использовать на церемониальных приемах царское одеяние, полагавшееся только византийским императорам и членам их семей. Греческий оловир, в котором предстал Даниил Романович, не мог быть пожалован ему в качестве дара ни одним из европейских государей. В Европе их воспринимали исключительной ценностью, сродни христианским святыням. Стать обладателем такого наряда Даниил мог, только унаследовав его от своих родителей. Этот наряд мог составлять приданое второй жены Романа Мстиславича. Галицко-Волынские князья, прямые потомки князя Романа и его второй супруги, царевны Евфросинии, использовали атрибуты своего царского происхождения и позднее. «Галицко-Волынская летопись сообщает, что умершего 10 декабря 1288 г. Владимира Васильковича приготовили к погребению по царскому чину: оувиша и оксамитомъ со кроужевомъ, якоже достоить царямъ».
Вопрос о царском титуле галицких князей есть вопрос чрезвычайно важный для нашей национальной истории и для правильного понимания политических предпочтений русских князей в тяжелый период татарского нашествия. Попутно следует отметить, что параллельно с Южной Русью, на севере во Владимире, шли своим путем символического освоения византийского наследия. Мы уже обращались к вопросу имени князя Александра Невского. Ученым более или менее точно удалось распознать святого, в честь которого князь получил свое имя. Но здесь необходимо коснуться вопроса, каким образом имя Александр вообще могло стать любимым в княжеской среде Рюриковичей. Распространение на Руси истории и образа великого царя Александра Македонского посредством переводной литературы и сакрального искусства, его слава как древнего повелителя населенной ойкумены способствовали появлению сего имени в княжеском именослове. Связь имени князя Александра и македонского царя была очевидна и для современников Александра. «В Софийской Первой летописи Александр Ярославич назван тезоименитым царю Александру Македонскому. Эту же связь отмечает и автор Особой редакции Жития Александра Невского (XIII), славя князя, “тезоименитого царя Александра Македонского”».
К началу XIII века на Руси сложилась традиция использования трех различных терминов для подчеркивания политического могущества и особого статуса наиболее влиятельных князей. Эти термины становились титулами, которые вошли впоследствии в полный титул московских царей — великий князь, царь и самодержец. «Одним из случаев, когда в летописи используются сразу все названные способы подчеркивания могущества князя, представляется случай с галицко-волынским князем Романом Мстиславичем, неоднократно именуемым “великим князем”, а также “самодержцем” и “царем” с указанием на общерусский масштаб его правления — самодержец всея Руси, царь в Руския земли. Иногда в отношении Романа подобные определения смешиваются в рамках одной формулы: великого князя Романа, приснопамятнаго самодержьца всея Роуси».
Подобное сочетание всех возможных титулов Древней Руси, примененных в отношении одного князя, делает Романа Мстиславича фигурой поистине выдающейся для того периода общерусской истории. В этом отношении его можно сравнить только с Ярославом Мудрым, которого летописи также именуют «великим князем», «самовластием», а в одном граффити Софийского собора в Киеве он назван «царем». «Определения “царь”, а также производные от него “царский”, “цесарство”, “цесарствие”, “царствовати”, употребляется в отношении отдельных представителей княжеского рода Рюриковичей, время от времени встречаются в древнерусских источниках. Попавшее в древнерусский язык, по-видимому, из старославянской литературы, слово “царь” (“цесарь”) использовалось для обозначения Бога — Царя Небесного, ветхозаветных правителей, римских и византийских императоров, обычно служа переводом греческого “басилевс”. С конца XII в. известны также случаи применения этого термина к императору Священной империи (“цесарь Немецкий” или “цесарь Римский”)».
Термин «царь» попал на Русь в период, когда династия Рюриковичей еще не испытывала потребности в иностранной титулатуре, и по этой причине «царь» долгое время не был титулом в собственном смысле слова, но лишь элементом «высокого стиля» летописцев. Впрочем, как мы видели выше на примере Андрея Боголюбского, речь не может идти только о «литературном изыске». В понятие «царь» вкладывался совершенно определенный смысл не только кровного родства с правящими византийскими императорами, но и равности им по своему владельческому статусу. Эта традиция не была устойчивой. В XIII столетии все изменилось радикальным образом. Этому способствовали два эпохальных события для нашей страны: падение Царьграда в 1204 г. и татарское нашествие. В исторической литературе обращают внимание на то обстоятельство, что в русских источниках со времен Батыева нашествия титул «царь» закрепился за великим ханом в Каракоруме. «Однако монгольским влиянием невозможно объяснить перенос на правителей Монгольского государства заимствованного у Византии царского титула. Выяснить, почему именно этот, чуждый монголам титул закрепился на Руси за их правителями, вытеснив собой свой монгольский эквивалент — титул “хан”, также известный на Руси, но употреблявшийся гораздо реже, можно только с учетом русско-византийских отношений предшествующего времени. Дело в том, что монгольское завоевание Руси пришлось на период времени “отсутствия царства”, наступивший после падения Константинополя в 1204 г. и продолжавшийся до восстановления Византийской империи в 1261 г. Монгольское государство и его правители как бы заполнили собой место, принадлежавшее ранее Византии и ее императорам и теперь временно пустовавшее. Восстановление Византийской империи только закрепило вновь сложившуюся реальность, поскольку басилевсы и Константинопольский патриархат вступили с Ордой в союзнические отношения и тем самым легитимировали положение этого государства в Восточной Европе, и в том числе зависимость от него русских земель. Наименование ханов Орды царями вытекало, разумеется, не из того, что после 1204 г. русская мысль искала, кого бы теперь назвать царем, а из реального политического статуса Джучидов, подчинивших не только Русь, но и другие государства, поставивших на службу себе их правителей и обложивших данью население».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: