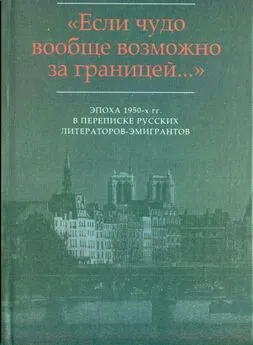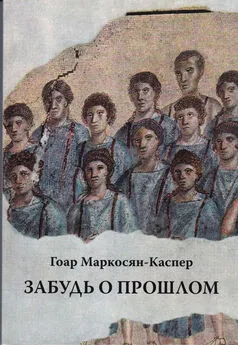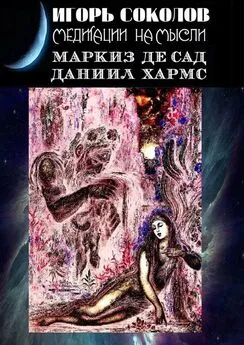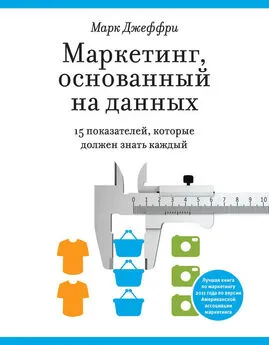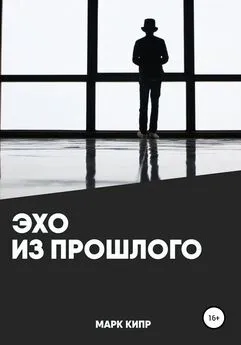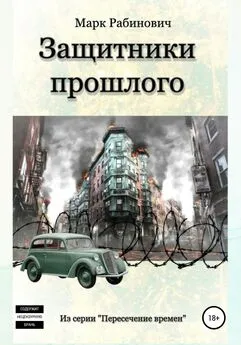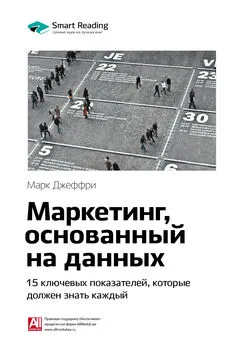Марк Вишняк - Дань прошлому
- Название:Дань прошлому
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Вишняк - Дань прошлому краткое содержание
Дань прошлому - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
От нашего одноклассника Анатолия Вульферта, сына члена судебной палаты московского округа, мы узнали, что по какому-то делу ожидается выступление известного своим красноречием адвоката Шубинского - мужа знаменитой драматической артистки Ермоловой.
В указанный день я облачился в костюм отца, - пиджак висел как на вешалке, рукава и брюки пришлось загнуть и всё время подтягивать вверх. Нас всех благополучно пропустили в громадный и торжественный Екатерининский зал, где мы смирнехонько уселись в трепетном ожидании речи Златоуста. Случилось, однако, так, что прокурор отказался от обвинения, и, как мы узнали во время перерыва, Шубинский, поэтому, не будет говорить. На наше счастье, Вульферт-отец, сидевший за судейским столом и знавший, что мы явились в расчете на речь Шубинского, напомнил тому в частной беседе, что отказ прокурора от обвинения в судебном заседании не предрешает приговора. Шубинский не стал спорить и произнес свою речь - не столько в интересах своих подзащитных, сколько для удовлетворения интереса незаконных посетителей суда.
То был не единственный случай нашего индивидуального и коллективного безрассудства, объяснявшегося исключительно возрастом и кончавшегося, к счастью, благополучно. Наше легкомыслие направлялось и на более серьезное.
Кому-то из нас пришла мысль издавать журнал. Это было вдвойне недопустимо. Без специального разрешения в России того времени ничего не дозволялось печатать. Тем более не дозволялось печатать что-либо несовершеннолетним, воспитанникам средних учебных заведений. В первых же строках гимназического билета, который мы обязаны были всегда иметь при себе, значилось: "Дорожа своею честью, ученик не может не дорожить честью того заведения, к которому он принадлежит". А посему - следовал перечень того, что строго воспрещалось. Однако ни наша собственная "честь", ни "честь" нашего "заведения" нас не остановила. Мы решили издавать журнал.
Стали придумывать название. Как ни напрягались, оно не давалось, всё не подходило: одно избито, другое претенциозно. В конце концов, остановились на подсказанном со стороны названии - "Молодые побеги". Мне оно не нравилось, но я оказался в меньшинстве. Сразу же приступили к делу. Комната Шера была превращена в помещение для редакции и одновременно в "типографию": здесь изготовлялся состав для гектографа, переписывались соответствующими чернилами рукописи и переписанное "печаталось", вернее - размножалось. "Молодые побеги" выходили в 70 экземплярах, страниц в 80 каждый. Вышло, если не ошибаюсь, 11 номеров. Формально все мы были равноправными редакторами, принимали или отвергали материал большинством голосов. Но к голосу Свенцицкого прислушивались внимательнее, и он, конечно, весил тяжелее нашего - был убедительнее и авторитетнее. Техника вся лежала на Шере, на его матери и прислуге.
В "Молодых побегах" помещены были статьи полуфилософского содержания, литературного, на социальные темы, но не на политические. Были рассказы и стихи. Моему перу принадлежали две статьи. Одна - "Эгоизм и альтруизм" доказывала, что альтруизм возвышен, но обманчив, ибо и в его основании лежит эгоизм. Название другой статьи было внушено названием ибсеновской пьесы "Когда мы, мертвые, пробуждаемся". Называлась статья - "Когда мы, живые, умираем", и открывалась с бездарной попытки художественно изобразить ночное преследование женщины на улице. За этим следовало рассуждение: разврат духовно умерщвляет живого человека. Проблема отношений между полами была одной из наиболее часто трактованных Свенцицким. Она стала теоретически интересовать и нас задолго до того, как мы с ней жизненно столкнулись. "Молодые побеги" имели успех не только в нашем кругу. Они заслужили положительную оценку и со стороны, - в частности, Максим Горький поощрял нас продолжать наше рискованное начинание.
Были в нашей гимназии, - не в нашем окружении и даже не в нашем классе, а в другом, нормальном отделении нашего класса или классом ниже нашего, ученики, получившие впоследствии всероссийскую известность и встретившиеся мне на жизненном пути.
Так в 7-ой класс перевелся к нам из 5-ой гимназии Ильин, Иван Александрович, - будущий философ, ставший единомышленником П. Б. Струве. Светлый блондин, почти рыжий, сухопарый и длинноногий, он отлично учился, получил при выпуске золотую медаль, но, кроме громкого голоса и широкой, непринужденной жестикуляции, он в то время как будто ничем не был замечателен. Даже товарищи его не предполагали, что его специальностью может стать - и стала - философия. Говоря о жестикуляции Ильина, получившего впоследствии известность не только философа, но и стилиста и оратора, не могу не привести отзыва о нем другого философа, стилиста и оратора - Ф. А. Степуна. На публичной лекции Ильина о Трех Петрах - Петре Великом, Петре Столыпине и Петре Врангеле: "Петр - скала, Столыпин - сверло, Врангель - вихрь", сидевший рядом со мной Степун, глядя на Ильина, обронил:
- Какое же это красноречие!.. Это оратор для глухонемых!..
Была у нас, классом ниже, и другая будущая достопримечательность - Николай Николаевич Гиммер, впоследствии Суханов, эс-эр, потом меньшевик-интернационалист, вдохновлявший политику "революционной демократии" в самые первые дни и недели февральской революции и ставший ее первым историографом. В гимназии он держался всегда в стороне, как бы стараясь быть незаметным. Невзрачный и сутулый, он обращал на себя внимание умным лицом с не сходившей с него ядовито-иронической улыбкой и такой же речью. Учился он отлично. Тоже окончил с золотой медалью. В гимназии я не сказал с ним двух слов. Мне его "показывали", так как передавали, что он родной сын описанного Львом Толстым с натуры "Живого трупа".
До окончания гимназии политикой, как я уже упоминал, в моем окружении и не пахло или пахло слабо и в порядке исключения. Никакой политической реакции ни я, ни мои товарищи не ощущали, что, конечно, вовсе не означало, что ее во времена Делянова и Победоносцева, а потом Боголепова, не было. Перебирая прошлое, могу вспомнить очень немногое, имевшее политический привкус.
Скончался государь Александр III, и нас всей гимназией, 16 классов человек по 40 в каждом, повели в гимназическую церковь на панихиду по усопшем. При пении "Со святыми упокой" присутствовавшие поверглись молитвенно на колени. Один я, 11-летний второклассник, остался стоять, считая религиозным отступничеством опуститься на колени перед тем, что мое исповедание не признает божественным. Мне шептали:
"Опускайся на колени!" Меня щипали сзади. Я не поддался. Может быть, я был неправ: со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Но ведь не своей охотой я пошел на панихиду, а меня повели. Как бы то ни было, к чести гимназии - мой юный нон-комформизм или строптивость никаких последствий для меня не имела.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: