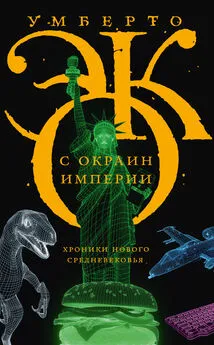Умберто Эко - Эволюция средневековой эстетики
- Название:Эволюция средневековой эстетики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Азбука-классика»
- Год:2004
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-352-00601-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Умберто Эко - Эволюция средневековой эстетики краткое содержание
«Эволюция средневековой эстетики» (1958) – теоретическая работа знаменитого итальянского романиста Умберто Эко (автора бестселлеров «Имя Розы», «Маятник Фуко», «Остров накануне», «Баудолино»), посвященная проблеме развития идеи Прекрасного в средневековой философии. Уже в этом труде в полной мере раскрылся литературный дар писателя, сумевшего воссоздать атмосферу духовной и интеллектуальной жизни давно ушедшей эпохи.
***
«Эволюция средневековой эстетики» (1958) – ранняя теоретическая работа Умберто Эко, посвященная развитию идеи Прекрасного в средневековой философии. Уже в этом труде в полной мере раскрылся литературный дар итальянского писателя, он «актуализирует» историю, примеряя ее на сегодняшний день, пытается взглянуть на средневековый мир «изнутри», поэтому текст увлекает и заинтриговывает читателя. Эко говорит не только о средневековых взглядах на красоту чувственную и сверхчувственную, красоту пропорций, красоту света, символа, организма, но и о том, в какой мере способен к их восприятию человек нашего века.
***
Умберто Эко (р. 1932) известен во всем мире своими романами «Имя Розы», «Маятник Фуко», «Остров накануне», «Баудолино». Доктор философских наук, профессор семиотики, сейчас он является почетным профессором 42 университетов мира. Эко стал лауреатом целого ряда премий и кавалером орденов, среди которых французский орден «За заслуги в литературе», орден Почетного легиона, орден Большого креста Итальянской Республики.
Эволюция средневековой эстетики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
3. Филипп совершенно не говорит о прекрасном, но многие его современники, в особенности в комментариях к Псевдо-Дионисию, где постоянно встречаются указания на прекрасное ( pulchritudo ), задавались вопросом о том, является ли прекрасное предметом трансцендентным. Прежде всего, это способствовало определению чувственного восприятия посредством строгих категорий. Далее, чтобы разъяснить на уровне трансцендентов разнообразную и сложную терминологию триад и, наконец, чтобы прояснить с той же метафизической точностью отношения между благом и красотой, ибо схоластическая методология требовала дифференциации понятий. Дух времени был духом интегрированных ценностей. Чувственное восприятие, свойственное этому времени, оживляет в атмосфере христианского спиритуализма греческую концепцию kalokagathia , объединяющую добро и красоту, но философ-схоласт хочет ясно понимать, в чем состоит идентичность этих ценностей и где пределы их самостоятельности. Если прекрасное – постоянное свойство всего сущего, то красота вселенной следует из метафизической определенности, а не из простого поэтического чувства восхищения. Но стремление различать трансценденталии согласно разуму ( secundum rationem ) потребовало определить те специфические условия, в которых нечто может рассматриваться как прекрасное. Иначе говоря, условия автономии красоты в пределах окончательного единства ценностей.
Все это говорит о том, что философия в какой-то момент ощутила необходимость критически осмыслить эстетические проблемы. Поначалу Средневековье, хотя и допускало разговоры о прекрасном и о красоте всего окружающего, вовсе не торопилось высказывать на сей счет каких-либо специфических суждений. Примечательно, как переводчики греческого трактата Псевдо-Дионисия реагировали на такие выражения, как kalon и kdllos . В 827 году Хилдуин переводит фразу из четвертой главы трактата «О Божественных именах» («De Divinis»Nominibus») следующим образом: «Благо и благодать неотделимы друг от друга, ибо заключены в едином... благо, как мы считаем, является частью благодати», понимая, таким образом, kalon как некую «онтологическую добротность». Тремя веками позже Иоанн Сарацин переведет тот же самый отрывок вот как: «Прекрасное и красота неразделимы по той причине, что все содержится в едином... Мы называем красотой то, что является частью прекрасного» и т. д. В одном из писем, адресованных Иоанну Солсберийскому, переводчик говорит, что переводил Дионисия, следуя в основном смыслу, а не букве текста 32 . Это уточнение носит не филологический характер, перед нами достаточно тонкий подход к содержанию: тот, кто переводит по смыслу, модернизирует текст, подгоняя его под определенный тип понимания. Два этих перевода разделяет целая вселенная. Дело не в доктриналь-ных разночтениях или попытке сделать понимание более глубоким. Хилдуина и Иоанна Сарацина разделяют закат варварских нашествий, каролингский ренессанс, гуманизм Алкуина и Рабана Мавра, преодоление ужаса перед наступлением тысячного года, обретение позитивного смысла жизни, эволюция от феодализма к гильдиям, первые Крестовые походы, открытие торговых путей, романский период с его великими паломничествами к Сантьяго-де-Компостелла и первый расцвет готики. Эстетическое восприятие изменяется вместе с расширением земных горизонтов и с попытками укоренить новое видение мира в канонах теологии. В период между Хилдуином и Иоанном Сарацином причисление прекрасного к транс-ценденталиям поначалу неявно и полуосознанно. Так, например, Отлох из Сант Эммерама в начале XI века наделял любое творение основным свойством прекрасного – созвучием55 , и так постепенно сложились различные теории космического порядка и музыкального строения вселенной. XIII век, вооруженный терминологией, которая была разработана в таких трактатах, как книга Филиппа Канцлера, прилежно и тщательно приступил к исследованию категорий прекрасного и взаимоотношений между ними.
4. Гильом Овернский в 1228 году в «Трактате о добре и зле» («Tractatus de Bono et de Malo») 34 обсуждает вопрос о красоте, присущей честному поступку, и говорит, что, подобно тому как красота, воспринимаемая чувствами, нравится тому, кто это видит, красота внутренняя есть то, что доставляет отраду душе чуткого к ней «и проникается к ней любовью». Благодать, которую мы видим в человеческой душе, «эту благодать мы называем красотой или украшением, сравнивая ее с красотой внешней и видимой». Он устанавливает некую равнозначность между моральной красотой и добродетелью, недвусмысленно перенося ее из традиции стоиков, сочинений Цицерона и Августина, а возможно, и из «Риторики» Аристотеля: «Прекрасное – это то, что желанно само по себе и приятно, или же то, что, являясь благим, приятно оттого, что оно благое» 35 . Гильом останавливается на этом определении и не идет дальше.
В 1242 году Фома Галл из Верчелли заканчивает свою книгу «Толкование на „Корпус" Дионисия» («Explanatio Corpus Dionisianum») и возвращается к уподоблению прекрасного благому. Роберт Грос-сетесте в «Комментарии к Дионисию» (до 1243 г.), наделяя Бога именем Прекрасное ( Pulchritudo ), подчеркивает, что «если все стремится к благу и красоте, то благо и красота суть одно и то же» 36 . Он отмечает, что как оба эти понятия соединяются в одном объекте, так объединены они и в Боге, Чьи имена говорят о благотворном процессе Творения и переходят от Бога на Его создания, но прекрасное и благо все же различаются в разуме ( diversa sunt ratione ). «В самом деле, Господь благ, ибо Он всему дарует жизнь и благое существование, и движет, и соединяет, и оберегает. Прекрасным называют Его потому, что Он все приводит к собственной гармонии, уподобляя себе». Благо характеризует Бога, дарует вещам существование и сохраняет их для бытия. Прекрасное же становится организующим началом всего сотворенного. Эта концепция созидательной деятельности Бога необычайно интересна с эстетической точки зрения. Метод, использованный Филиппом для того, чтобы различать единое и истинное, Роберт Гроссете-сте перенимает для того, чтобы отличать прекрасное от благого.
5. Возможно, Гроссетесте был знаком и с другим фундаментальным сочинением, получившим широкое распространение после 1245 года. Речь идет о «Сумме» ( Summa ) Александра Гэльского, произведении трех францисканских авторов: Жана де Ля Рошеля, брата Консидеранса и самого Александра Гэльского 37 . Здесь проблема трансцендентности и распознавания прекрасного решается весьма определенно. Жан де Ля Рошель спрашивает себя: идентичны ли благо и красота в своем устремлении? При этом под устремлением ( intentio ) он понимает намерение смотрящего на данную вещь – и в этом вопросе заключена новизна постановки проблемы. Он считает твердо установленным, что красота ( pulchrum ) и благо (Ьопит) идентичны на уровне объекта, и ссылается на известное утверждение бл. Августина, согласно которому добродетель ( honestum ) относится к сфере постижимой красоты. Тем не менее то благо, которое исхо дит из добродетели, «тогда как прекрасное есть проявление блага, приятное на вид; благим же обусловлено наше впечатление» 38 . И добавляет, что благое относится к конечным основаниям, а прекрасное – к основаниям формальным. В самом деле, красивый ( speciosus ) происходит от облика ( species ), то есть от «формы». В «Сумме брата Александра» («Summa fratris Alexandri»), когда разговор заходит о форме, имеется в виду основополагающий жизненный принцип, форма в понимании Аристотеля, что позволяет строить представление о красоте вселенной. Истинное, благое, прекрасное – как, в свою очередь, проясняет брат Конси-деранс – взаимно обращаемы и различаются чисто логически ( ratione ). Истина – это положение формы относительно внутренней сущности вещи, красота же есть положение формы относительно внешнего ее облика.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
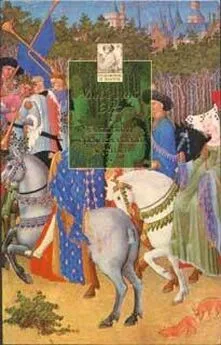






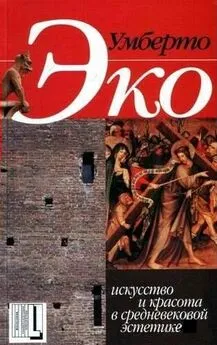
![Умберто Эко - С окраин империи. Хроники нового средневековья [litres]](/books/1150337/umberto-eko-s-okrain-imperii-hroniki-novogo-sredn.webp)