Коллектив авторов - Правогенез: традиция, воля, закон
- Название:Правогенез: традиция, воля, закон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-241-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Правогенез: традиция, воля, закон краткое содержание
Предлагается рассматривать правогенез как типологизированный процесс преобразования предпосылок права в его завершенную конструктивную (системную) форму. При таком понимании взаимосвязь права с государством выражается прежде всего в определении социально-географического и хронологического пространства «государственной юрисдикции», определяющего уровень культурного развития нации и ее потенциальную возможность к внедрению правовых новаций.
Монография ориентирована на преподавателей, аспирантов, студентов вузов, а также всех тех, кто интересуется проблемами истории и теории права.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Правогенез: традиция, воля, закон - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В этой связи эвристически ценной представляется концепция Ю. Хабермаса. В социально-философском плане она основывается на дискурсивной рациональности, формирующейся в «идеальной речевой ситуации» – в практике «идеального коммуникативного сообщества», способствующей достижению компромисса в ходе обсуждения любой социальной проблемы. Условием, обеспечивающим признание нормы, претендующей на значимость, по мнению Ю. Хабермаса, является принцип универсализации: «идеальная языковая ситуация» обеспечивает одобрение нормы со стороны всех затрагиваемых ею лиц. К условиям процесса коммуникации он причисляет иммунитет против подавления и неравенства, симметричность коммуникации, руководство одним мотивом – мотивом совместного поиска истины и, наконец, допущение идеального «неограниченного коммуникативного сообщества».
При этом Ю. Хабермас приводит правила дискурса, сформулированные Р. Алекси: 1) ни один говорящий не должен противоречить себе; 2) каждый говорящий, применяющий предикат F к предмету А, должен быть готов применить предикат F к любому другому предмету, который во всех релевантных отношениях равен А; 3) разные говорящие не должны использовать одно и то же выражение, придавая ему различные значения; 4) каждый говорящий может говорить только то, во что он сам верит; 5) тот, кто прибегает к высказыванию или норме, не относящимся к предмету дискуссии, должен привести основание для этого; 6) каждый владеющий языком и дееспособный субъект может принять участие в дискурсе; 7) каждый может ставить под вопрос любое утверждение; 8) каждый может вводить в дискурс любое утверждение; 9) каждый может выражать свои установки, желания и потребности; 10) никакое принуждение, господствующее вне или внутри дискурса, не должно мешать никому из говорящих реализовать свои права, определенные в пунктах 6 и 7 [65] Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2001. С. 137–140.
.
Таким образом, сама процедура рационального дискурса предполагает нормативную значимость классических естественно-правовых принципов свободы и равенства его участников как оснований прав человека. По логике классической естественно-правовой доктрины дискурсивно-рациональной необходимостью, т. е. жесткой императивностью, морального обоснования прав человека определяется их приоритетное долженствование (в «дуальной» взаимосвязи с позитивностью права) в онтологической структуре правопорядка. Более того, нормативные аргументы, устанавливающие, согласно формуле Радбруха (которой следует Р. Алекси), порог крайней несправедливости (вопиющее нарушение прав человека), позволяют, по Алекси, утверждать, что эта формула не говорит, что «крайняя несправедливость не должна быть правом», а что «крайняя несправедливость не является правом» [66] Алекси Р. Между позитивизмом и непозитивизмом? Третий ответ Евгению Булыгину // Булыгин Е. В. Избранные работы по теории и философии права. СПб.: Алеф-Пресс, 2016. С. 428.
.
В дискурсивных теориях естественного права (Ю. Хабермас, Р. Алекси) права человека – это «новое естественное право» – выступают как моральные требования, обращенные к позитивному правопорядку, и являются критерием оценки позитивного права [67] Алекси Р. Существование прав человека // Правоведение. 2011. № 4. С. 24.
. Получается, что тот самый дуализм классических теорий как будто и не опровергнут и даже не переосмыслен в этой новейшей версии юснатурализма. Но такой вывод был бы поспешным. Во-первых, предполагается интегрирование (позитивирование) прав человека в правовую систему, уже отвечающую критерию справедливости (обладающую «претензией на правильность»). Во-вторых, и это главное в контексте обсуждаемой темы, для Р. Алекси само существование прав человека обусловлено исключительно их обоснованностью – обоснованием каждым и всеми в ходе и в результате рационального дискурса, который осуществляется по определенным правилам, на началах свободы и равенства всех, кто выражает желание принять в нем участие. Так что права все же не привносятся извне, а имеют «человеческое», коммуникативно-процедурное происхождение.
Еще в начале XX в. было подвергнуто сомнению положение классического юснатурализма о раз и навсегда данных естественных правах человека. Динамизм, процессуальность, историчность бытия права, можно сказать, стали «визитной карточкой» постклассических учений о праве, в том числе и естественно-правовых. «То, что право – естественное право, – подчеркивает А. Кауфманн, – обусловлено временем и ситуацией, что оно не статично, но имеет динамический характер, что оно обладает “временной структурой историчности”, – это знание, которое все более и более прокладывает себе путь…» [68] Кауфманн А. Онтологическая структура права // Российский ежегодник теории права, 2008, № 1. СПб., 2009. С. 165.
А. Кауфманн, а в прошлом, например, Р. Штаммлер усматривают историзм, динамизм естественного права в непрерывной актуализации и конкретизации идеи права как идеи справедливости (Р. Штаммлер), сущности права (право справедливо по природе) [69] Там же. С. 171.
(А. Кауфманн). В соответствии со своей динамической природой естественное право, по Кауфманну, «должно постоянно вновь осуществляться, чтобы прийти к самому себе, это не готовое право, но во все времена становящееся право» [70] Там же. С. 169.
. Таким образом, в противовес кантовскому деонтологическому различию сущего и должного, «бытийственное» естественное право в самом себе (т. е. в сущем) содержит указание на то, каким право, справедливое по природе, должно быть, каким оно становится в процессе и в результате актуализации своей сущности [71] Методологическая парадигма понимания права «из самого себя» (Л. Фуллер) не характерна для современных естественно-правовых теорий, тяготеющих к классической интерпретации естественного права как не имеющего истории и самоочевидного (Д. Финнис).
.
Онтологический императив естественного права реализуется, однако, далеко не сразу. Согласование должного и бытия происходит в процессе становления права: от основной нормы (естественного закона, принципа справедливости) к позитивному закону и, наконец, завершается в решении в конкретной ситуации – в судебном решении (а также в деятельности прокуроров, адвокатов, исполнительной власти) [72] Кауфманн А. Онтологическая структура права. С. 173–174.
. Если в классических теориях естественного права закон «возникает из права», то в новейших его версиях «из закона возникает право» [73] Там же. С 174: см. также: Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков, 2002. С. 187.
. Заметим, однако, что, хотя акцент в этих его версиях делается не на законотворчестве, а на действии и применении позитивного законодательства, но при этом сохраняется само различение права и закона, характерное для всей традиции юснатурализма [74] Луковская Д. И. Позитивизм и естественное право: конфликт интерпретаций? С. 236.
.
Интервал:
Закладка:
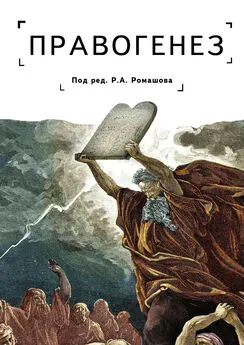
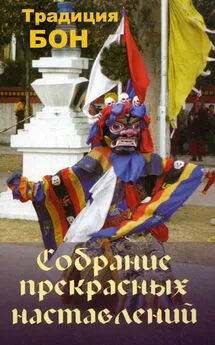





![Коллектив авторов - Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова: традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)]](/books/1071829/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel.webp)


