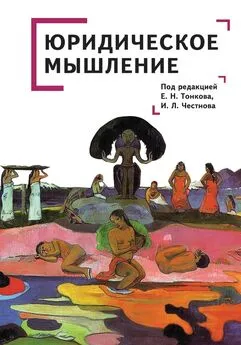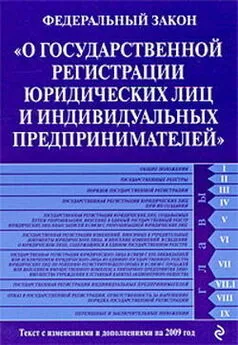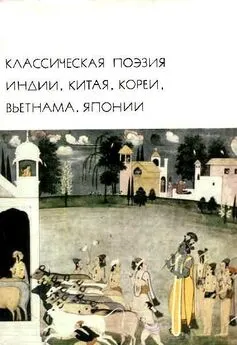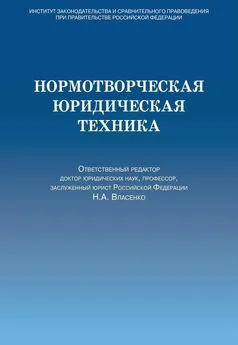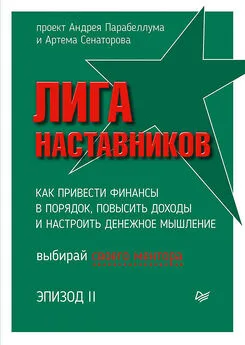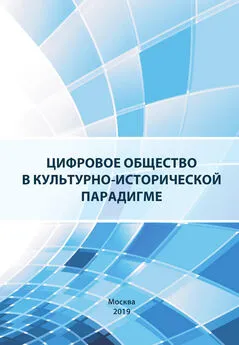Коллектив авторов - Юридическое мышление: классическая и постклассическая парадигмы
- Название:Юридическое мышление: классическая и постклассическая парадигмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-160-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Юридическое мышление: классическая и постклассическая парадигмы краткое содержание
Монография ориентирована на преподавателей, аспирантов, студентов вузов, может быть интересна всем, интересующимся современными проблемами юридического мышления.
В оформлении обложки использован фрагмент картины Поля Гогена «День божества».
Юридическое мышление: классическая и постклассическая парадигмы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нетрудно заметить, что победа научного метода, столь блистательно примененного в трудах Р. Декарта, Б. Паскаля, И. Ньютона, Г. В. Лейбница и др., была подготовлена всем ходом предшествующего интеллектуального развития и в особенности тем количественным ростом знания, который имел место в течение первой половины XVII в. Учитывая сказанное, нельзя не согласиться с высказыванием А. Н. Уайтхеда, по мысли которого, западная цивилизация Нового времени жила «используя накопленный гением XVII в. капитал идей. Люди той эпохи восприняли идейную закваску, рожденную историческим переворотом XVI в., и оставили в качестве своего завещания целостные системы, объемлющие все аспекты человеческой жизни. То был единственный век, который, последовательно используя всю сферу человеческой деятельности, породил интеллектуального гения, достойного величия исторических событий» 99 99 Уайтхед А. Н . Наука и современный мир // Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М.: «Прогресс», 1990. С. 95.
.
Становление классического типа рациональности потребовал внедрения новых семиотических средств конструирования реальности, обеспечивающих не только ее когерентность, но и динамику различных сегментов, включая правовую реальность, равно как и самой реальности в целом. Эти средства утратили свою образно-символическую составляющую, опосредствовавшую связь планов означаемого и означающего, превращаясь собственно в знаки, представляющие собой, согласно определению Ф. де Соссюра, двустороннюю связь между понятием (психическим образом в сознании) и его внешним (акустическим или графическим) выражением 100 100 См.: Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Изд. Уральск. унта, 1999. С. 68–70.
. Такие знаки, порождаемые конструктивной деятельностью человеческого сознания, оказываются более пригодными для того, чтобы формировать устойчивые общезначимые связи между атомарными фактами, чем символы, целиком ориентированные на фактическую конкретность реальности.
Вместе с тем отличительной особенностью классического мышления или, иначе говоря, классической рациональности, в том числе мышления правового 101 101 См.: Разуваев Н. В. Современная теория права в поисках постклассической парадигмы познания // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2014. № 5. С. 143–144.
, являлся механицистский подход к реальности, получивший наглядное выражение в законах ньютоновской механики 102 102 См.: Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. СПб.: Азбука-Аттикус, 2010. С. 38 и след.
. Любые законы, формулируемые в поле классической рациональности, призваны были описывать цепочку причинностей, восходящую к умозрительно постулируемой (и рациональными средствами неверифицируемой) первопричине, каковой выступала божественная воля. При этом возможность саморазвития, самопроизвольной динамики не просто не принимались в расчет, но, более того, целенаправленно элиминировались. Данная установка проявила себя в генерируемых классическим мышлением знаковых комплексах, имевших статичный характер и не включавших в себя динамическое измерение. Как писал Ф. Соссюр, на идеи которого классическая рациональность оказала значительное воздействие, «для говорящего не существует последовательности… фактов во времени: ему непосредственно дано только их состояние, Поэтому и лингвист, желающий понять это состояние, должен закрыть глаза на то, как оно получилось, и пренебречь диахронией. Только отбросив прошлое, он может проникнуть в сознание говорящих» 103 103 Соссюр Ф. Указ. соч. С. 83.
.
Переход к постклассическим (неклассическому и постнеклассическому) типам рациональности ознаменовался открытием исторического измерения реальности, в том числе реальности социокультурной и правовой. Отныне основной задачей познания становится конструирование реальности в ее эволюционной динамике. Указанное обстоятельство повлекло за собой радикальную трансформацию знаковых средств конструирования, придание им объемности посредством добавления к двусторонней связи означающего и означаемого динамического измерения 104 104 См.: Чертов Л. Ф. «Знаковая призма»: пространственная модель семиозиса // Чертов Л. Ф. Знаковая призма: статьи по общей и пространственной семиотике. М.: Языки славянской культуры, 2014. С. 57–68.
. В результате знаковые комплексы (каковыми являются все культурные феномены, включая право) превращаются в сложные саморазвивающиеся системы, математически описываемые при помощи нелинейных уравнений, задающих трансформации социокультурного пространства.
Представляется не случайным, что предметом особенно пристального внимания гуманитарных наук становятся структуры сознания, трансформация которых определяет динамическое измерение культурного семиозиса. Такие структуры описываются как универсальные грамматики, обладающие текстопорождающими свойствами. Одна из наиболее известных и эвристически удачных моделей универсальной грамматики была предложена Н. Хомским, различавшим глубинные и поверхностные языковые структуры. По мнению ученого, любые высказывания, во всем их многообразии и сложности, порождаются при помощи ограниченного набора правил, принадлежащих глубинной (генеративной) грамматике, на подсознательном уровне доступных каждому говорящему и определяющих условия трансформации поверхностных синтаксических структур 105 105 См.: Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М.: Изд. МГУ, 1972. С. 61 и след.
. Тем самым удалось совместить структурный и трансформационный аспекты семиозиса, что привело к утрате релевантности предложенной Соссюром дихотомией синхронии/диахронии.
Рассмотренная лишь в самых общих чертах модель эволюции знаковых средств конструирования социокультурной реальности получает свое подтверждение при обращении к фактографическому материалу из истории человеческих языков 106 106 В литературе неоднократно предпринимались попытки обнаружить общие закономерности эволюции права и языка, обусловленные их тесным взаимодействием и взаимопереплетением в процессах знаковой коммуникации. См., например: Касаткин А. А . История языка и история права (на материале некоторых романских языков) // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1964. Т. XXIII. Вып. 2. С. 113–124; Проскурин С. Г. Эволюция права в свете семиотики // Вестник НГУ. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. Том 6. Вып. 1. С. 48–53.
, которые первоначально складываются из окказионально мотивированных индивидуальных знаков, обладающих максимальной степенью конкретности и обозначающих единичные предметы. Простейшим (и наиболее ранним) примером таких знаков являлись ручные жесты, выступавшие, по мнению некоторых ученых, первым способом знаковой коммуникации. Теорию возникновения языка из жестов пытались обосновать уже в античную эпоху такие философы, как Эпикур, Лукреций и др. 107 107 См.: Верлинский А. Л. Античные учения о возникновении языка. СПб.: Изд. СПбГУ, 2006. С. 333.
Интервал:
Закладка: