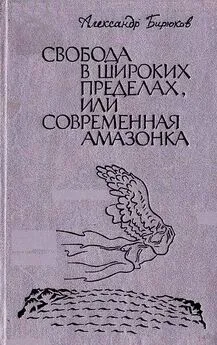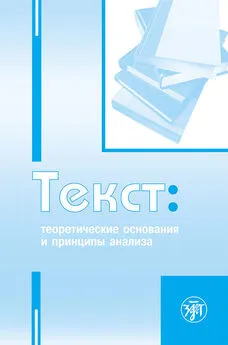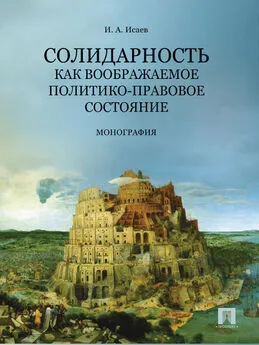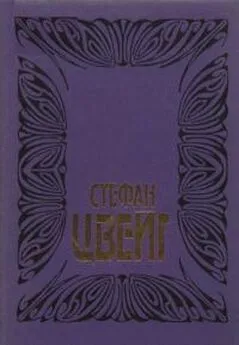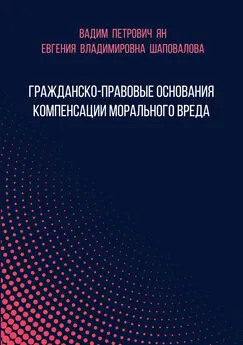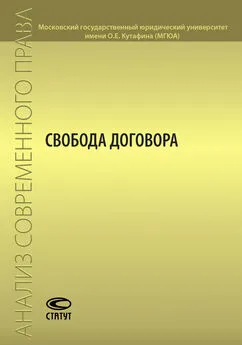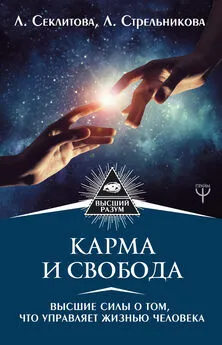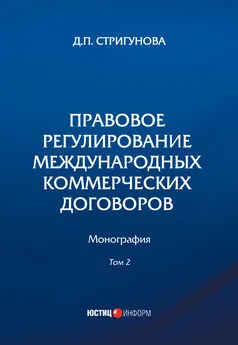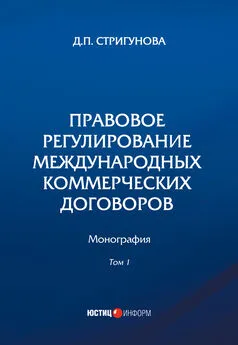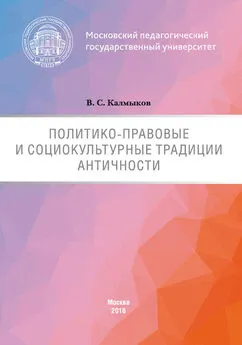Артем Карапетов - Свобода договора и ее пределы. Том 1. Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений
- Название:Свобода договора и ее пределы. Том 1. Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-8354-0870-2, 978-5-8354-0869-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артем Карапетов - Свобода договора и ее пределы. Том 1. Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений краткое содержание
Книга может быть интересна ученым, преподавателям, судьям, адвокатам, студентам юридических вузов и всем юристам, которые интересуются вопросами частного права. Книга (в особенности ее первый том) может быть также полезна юристам и экономистам, изучающим взаимосвязь экономики и права.
Свобода договора и ее пределы. Том 1. Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Можно не соглашаться с Марксом, который отвел праву исключительно роль надстройки над экономической структурой общества, несколько принижая значение влияния на право со стороны культуры и религии, а также обратного влияния культуры, религии и права на структуру экономических отношений [52]. Судя по всему, классический марксизм действительно недостаточно внимания уделял ряду сложных взаимосвязей этих различных систем, а также недооценивал определенную ригидность частноправовой догматики как таковой. Очевидно, что очень часто именно правовые реформы предшествуют формированию тех или иных социально-экономических и культурных реалий и стимулируют их возникновение и изменение. Так, например, во многих обществах (особенно в странах «догоняющего развития») предварительное признание права частной собственности и договорной свободы в позитивном праве являлось инструментом формирования рыночной экономики как таковой или легитимации ее стихийного развития, а также разрушения коллективистской и патерналистской социальной структуры. Поэтому соотношение позитивного права и социально-экономического и культурного контекстов вряд ли можно описать исключительно в рамках модели базиса и послушно двигающейся за ним надстройки. Взаимодействие всех этих элементов, видимо, куда более сложное и строится на началах взаимозависимости.
Тем не менее трудно не признать, что право в значительной степени функционирует по описанной А.Дж. Тойнби модели «вызов – ответ» [53]. Это легко увидеть, если задаться вопросом о том, что заставило правительства постсоветских стран вводить в позитивное право признание и защиту частной собственности, а также декларировать договорную свободу. Посредством введения или изменения позитивно-правовых норм государство и общество, как правило, пытаются дать регулятивный ответ на вновь возникшие экономические, нравственные и культурные вызовы, исходящие из социальной системы в целом. Иногда этот ответ задерживается и в позитивном праве сохраняются решения, введенные в свое время в ответ на некие исторические вызовы, давно утратившие свое функциональное оправдание. Но, как правило, рано или поздно эти анахронизмы отступают под давлением новых жизненных реалий. Это предопределяет постоянную и нескончаемую эволюцию позитивного права и относительность любых позитивно-правовых догм. Как верно отмечается в литературе, договорное право есть «средство регулирования общественных отношений, и его природа изменяется по мере социальных изменений» [54].
В этой связи стоит констатировать, что реальное позитивно-правовое наполнение принципа свободы договора и ограничения этого принципа всегда находились и находятся под значительным влиянием экономических, социальных, этических, культурных и даже религиозных идей и реалий, без понимания роли которых юристу сложно осознать истинные приводные ремни развития данного правового явления и предложить адекватные пути реформы.
Так, например, отказ классического римского права оценивать эквивалентность обмениваемых благ, развитие института laesio enormis в позднем римском праве и в Средние века, снижение его популярности в XIX в. и некоторое воскрешение в XX в. – все это отражало изменения в соотношении уходящих корнями в аристотелевскую и христианскую этику представлений о справедливости акта обмена, с одной стороны, и утилитарных соображений о пользе торговли, иммунизированной от государственного вмешательства и патернализма, – с другой. В той же мере возникновение в XX в. детального регулирования ограничения договорной свободы в отношении трудовых, потребительских договоров и договоров, заключенных на стандартных условиях, а также договорных отношений монополистов невозможно понять в отрыве от реальных подвижек в структуре торговли, демократизации общества и развития доктрины государства всеобщего благосостояния. В равной мере без анализа политики права трудно понять, почему французское право столь упорно отказывало судам в праве снижать договорную неустойку в течение всего XIX в., а в XX в. дало судам право снижать неустойку не только по просьбе должника, но и по собственной инициативе.
По нашему убеждению, если юрист не привык смотреть на развитие позитивного права в широком социально-экономическом, этическом и культурном контексте, он и не может претендовать на истинно научный анализ того, какие правовые решения будут наиболее приемлемы в современных условиях. Его сугубо исторические и догматические знания оказываются малополезными для правовой реформы и не способствуют решению актуальных задач регулятивной политики. Юрист оказывается бессильным смоделировать экономические и иные практические последствия, к которым принятие той или иной нормы приведет. И соответственно законодателям и судам, которые (в отличие от ученых) неизбежно вынуждены держать в уме и просчитывать конкретный общественный эффект своих регулятивных решений, опереться на исследования таких юристов-догматиков оказывается затруднительно. Если, например, юрист знает только то, как в российском и (в лучшем случае) зарубежном праве подходили и подходят к вопросу о снижении неустойки судом, но не вникает в истинные причины и цели предоставления судам такой дискреции и связь данного института с конкретными социально-экономическими условиями и этическими ценностями, ему крайне сложно давать продуманные советы законодателю или судам в отношении того, какие нормы следует принимать на сей счет в нашей стране, сталкиваясь, скажем, с вопросом о возможности исключения применения института снижения неустойки, включенной в акционерные соглашения.
Иначе говоря, юрист, который видит только конкретные изменения в законах и судебной практике и не анализирует истинные их основания, подобен тому медику, который наблюдает ход болезни, но не осознает ее причины и не интересуется путями эффективного лечения. С учетом того, что позитивное право как таковое существует не само для себя, а именно для «лечения» и «профилактики», сугубо догматическая методология хотя, безусловно, крайне важна и полезна, особенно в плане дидактики и практического правоприменения, но имеет достаточно ограниченные возможности применительно к выявлению глубинной сущности правовых проблем и анализу данных проблем de lege ferenda. Для того чтобы оценить истинные масштабы айсберга, следует погрузиться под воду. Так же и в праве – чтобы понять истинную суть любой догматической проблемы и найти лучшие варианты ее решения, необходимо заглянуть за границы позитивного права.
Некоторые юристы считают, что их воззрения на право носят сугубо нейтральный характер и никак не связаны с той или иной экономической теорией или этической системой. Этот самообман или умышленное введение в заблуждение приходилось не раз наблюдать при анализе истории права. Так, например, немецкие пандектисты всеми силами пытались скрыть свои глубинные политико-правовые (на самом деле либерально-экономические) пристрастия за отсылками к догмам римского права. Только внимательный читатель, который начинает обращать внимание на то, почему те или иные римские нормы пандектистами догматизировались, а другие придавались забвению, мог осознать, что рецептивная избирательность и само направление процесса формирования логических конструкций, возводившихся пандектистами на основе обобщения римских норм, отражали доминирующие в среде немецких классических правоведов-цивилистов и близких им интеллектуальных и экономических кругах идеологические предпочтения, этические установки и экономические теории (в первую очередь абсолют частной собственности и невмешательство государства в свободу экономического оборота) [55].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: