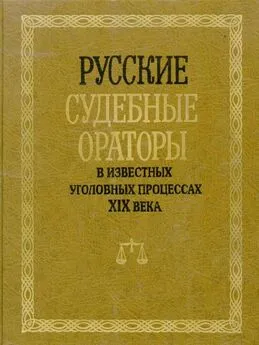И. Потапчук - Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века
- Название:Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Автограф
- Год:1997
- Город:Тула
- ISBN:5-89201-005-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И. Потапчук - Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века краткое содержание
В книгу вошли громкие процессы пореформенного суда в их стенографическом изложении, а также речи 113 юристов, произнесённые на этих процессах, которые касаются самой разнообразной категории уголовных дел - убийства, хищения имущества, мошенничества, банковские махинации, вексельные подлоги, транпортные катастрофы. Книга адресована главным образом юристам, историкам, т. к. они найдут в ней богатейший фактический и теоретический материал.
Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Затем обвинитель коснулся в нескольких словах жизни Долгорукова в Петербурге, переезда его в Москву и дурного влияния, оказанного на него обществом Давидовского и др., и перешел к отдельным обвинениям. Изложив обстоятельства, при которых был обманут Батраков, г. товарищ прокурора продолжал: «Долгоруков говорил, что он не называл себя племянником генерал-губернатора, и в этом объяснении есть значительная доля вероятия. Конечно, Долгорукову, хорошо знакомому с условиями великосветской жизни, неловко было самому лично отрекомендоваться посетителям племянником генерал-губернатора. Но он причастен обману уже тем, что позволял, чтоб Андреев распускал подобные слухи. Андреев еще вчера весьма энергично доказывал происхождение Долгорукова от великого князя Михаила Черниговского и родство его с московским генерал-губернатором. Эти усилия Андреева убеждают нас, что он действительно распространял слухи об этом родстве. Здесь не место подробно распространяться об этом, достаточно указать на один документ, прочтенный вчера на суде. Генерал-губернатор благодарит Долгорукова за присланные ему книги и через канцелярию посылает ему 25 рублей. С родственниками, столь близкими, как племянник, не ведут переписку через канцелярию. Главным руководителем при всех обманах был Андреев. Значительный комический талант его, о котором упоминали свидетели, давал ему шансы с успехом разыгрывать разные роли. И вот он является при Долгорукове в ролях наставника-руководителя, управляющего, поверенного, комиссионера и пр.».
Перейдя к обвинению Долгорукова в обмане Попова, г. обвинитель заметил, что «хотя личность самого свидетеля рисуется в крайне неблагоприятном свете, однако это обстоятельство нисколько не избавляет подсудимого от ответственности за обман даже такого лица». От следовавшего за тем обвинения Долгорукова в обмане г-жи Яцевич товарищ прокурора отказался, так как за неявкой в суд г-жи Яцевич и за невозможностью прочесть ее показание в деле не представляется решительно никаких данных для обвинения Долгорукова. По делу об обмане Аренсона обвинитель поддерживал обвинение всецело. «В объяснениях Долгорукова,— сказал он,— замечается косвенное сознание. Бесцеремонность его не дошла до того, чтобы он сказал, что тетка его поручала ему нанять винокура для нее. Сам подсудимый признает свой поступок с Аренсоном неблаговидным. А если бы Долгоруков имел такое поручение от тетки, то в поступке его не было бы ничего неблаговидного». Излагая обстоятельства Белкинского дела, обвинитель остановился на участии в нем подсудимого Адамчевского: «Адамчевский,— сказал прокурор,— участвует только в настоящем деле и потому понятно, что ему неприятно сидеть на скамье подсудимых с лицами, которые обвиняются в 10—12 преступлениях. Но обвинение против Адамчевского подтвердилось вполне. Белкин и его приказчик признали его за то именно лицо, которое выдавало себя за управляющего князя Долгорукова и явилось к ним в магазин. Подсудимый указывал на то, что он не мог решиться на обман из-за 100—200 рублей, что он в настоящее время имеет порядочное состояние, высокопоставленных клиентов и проч. Все это нисколько не опровергает обвинения: в продолжение десяти лет много утекло воды, и то, что теперь подсудимому кажется ничтожною суммою, могло иметь десять лет тому назад значение сильной приманки. Конечно, десятилетняя честная жизнь имеет право на ваше внимание, но лишь как обстоятельство, уменьшающее вину и дающее подсудимому право на снисхождение... Таково уж свойство настоящего дела, что совершение только одного преступления вызывает снисхождение». Затем обвинитель перешел к делу об обмане Дриссена. «Как провел Долгоруков 1868—69 годы, мы не знаем, но только в то время, когда утверждался приговор С.-Петербургского окружного суда о лишении Долгорукова всех особенных прав состояния, он обманул владетеля оружейного магазина Дриссена буквально тем же способом, как и Белкина». Изложив обстоятельства дела, г. обвинитель продолжал: «Оправдания, представленные подсудимым, не заслуживают никакого уважения. Он говорит, что совершал гражданскую сделку, заем, но заем тогда только может иметь виду и значение гражданской сделки, когда он совершается добровольно; займы же Долгорукова были насильственны. Он указывает также и на то, что вся наша молодежь, как имущая, так и неимущая, прибегает к помощи таких те займов. Если это действительно правда, то следует пожалеть нашу молодежь и пожелать, чтобы пример Долгорукова подействовал на нее отрезвляющим образом. Подсудимый говорит еще, что он выдал векселя, но вы знаете, какую цену имеют его векселя; он также ссылается на то, что полиция в 1870 году не возбудила уголовного дела об обмане Дриссена. Это доказывает только то, что полиция не исполнила своей обязанности, но не оправдывает подсудимого».
Покончив с делами Долгорукова, обвинитель перешел к Верещагину и начал с подлога векселя Рахманинова. «Подсудимый,— сказал он,— сознался в преступлении, потому что сознание для него безразлично. На предварительном следствии он оговаривал Султан-Шаха, здесь он снял свой оговор. Оговор свой он объясняет тем, что желал получить от судебного следователя какую-нибудь льготу. По словам Верещагина, судебный следователь устроил настоящую травлю подсудимых. Но понимает ли Верещагин, какую роль он играл при этой травле? Об этой роли вы посудите сами. Мы опускаем на нее завесу; на эту тему чем меньше говорить, тем лучше».
Господин обвинитель перешел далее к обману Ашворта, совершенному Топорковым, Верещагиным и Андреевым. Определив долю участия Верещагина, который «под влиянием винных паров и дружбы» выдал подложную запродажную запись, и Андреева, «который много говорит, но никогда не договаривает», г. обвинитель несколько дольше остановился на участии в деле Топоркова. «Настоящее дело,— сказал он,— было дебютом для Топоркова. Топорков может служить наглядным и блистательным примером всесильного и неотразимого влияния среды. Топорков хотел сознаться, первые слова его дышали непритворным чистосердечием и прямодушием и невольно располагали в его пользу. Но эта решетка, эта среда Верещагиных, Протопоповых, эта одежда и пр., сковали подсудимому уста и не дали вырваться из груди словам правды и раскаяния. В конце своего сознания он указал на то, что он сам был обманут Степановым, у которого он будто бы купил землю на векселя, но купчей крепости не получил. Но кто такой Топорков и откуда у него взялись средства для покупки земли? Он кончил курс в уездном училище, служил писарем у посредника полюбовного размежевания, и, приехав в Москву, не имел ничего, кроме того, что имел на себе. Защитник Топоркова представил суду свидетельство о бедности, а известно, как редко выдается такое свидетельство. Обвинение просило бы у вас снисхождения для Топоркова, но запирательство его отняло у него имевшуюся для этого почву».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: