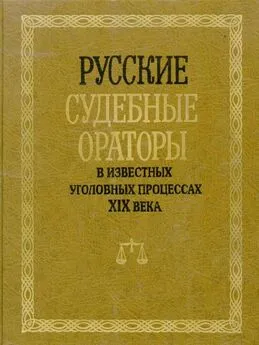И. Потапчук - Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века
- Название:Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Автограф
- Год:1997
- Город:Тула
- ISBN:5-89201-005-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И. Потапчук - Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века краткое содержание
В книгу вошли громкие процессы пореформенного суда в их стенографическом изложении, а также речи 113 юристов, произнесённые на этих процессах, которые касаются самой разнообразной категории уголовных дел - убийства, хищения имущества, мошенничества, банковские махинации, вексельные подлоги, транпортные катастрофы. Книга адресована главным образом юристам, историкам, т. к. они найдут в ней богатейший фактический и теоретический материал.
Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не лучше ли было прежде спросить мнения и заключения министерства финансов и уже с готовым взглядом на дело прийти к вам, господа присяжные заседатели? Какое же положение защиты, долженствующей доказывать, что такие дела делались гласно и открыто. Ведь вам известно, что это делалось. Бесполезно доказывать, что день — день и ночь — ночь. Выдавались вкладные билеты не за наличные деньги, но под учет векселей, не только здесь в Петербурге, но и везде, по всей России; делалось это с ведома властей, а иногда и по прямому их разрешению. Люди должностные, которые об этом здесь показывали, не отвергают подобного обстоятельства, но говорят уклончиво. Что сказали бы те же лица, если бы их спрашивали не под угрозой, как здесь, а на предварительном следствии, как начальство, лишь для разъяснения неопределенного предмета. Я думаю, что они говорили бы и свободнее и откровеннее. Полагаю, что в руках прокурора были все средства разъяснить вопрос о вкладных билетах иным путем, чем он был разъяснен, разъяснить путем законодательным, но не давать повода подсудимому говорить теперь, что его обвиняют в том, что все делали, что делалось заведомо со стороны лиц должностных, и ставить ему не только в вину, но и в преступление, что не только терпелось, но в иных случаях и прямо разрешалось правительством. Вот все, что я желал сказать относительно вкладных билетов вообще.
Но затем, ведь князя Оболенского винят и в том, что он реализовал эти вкладные билеты. Но об этом поговорим после. Надо вспомнить сначала, как князь Оболенский получал эти вкладные билеты. В 1874 году Кронштадтский банк сделался предметом нашествия компании дельцов, взявших банк под свое покровительство; первым их действием было то, что они взяли из него все наличные деньги, которые находились в кассе банка; одни взяли их для себя, другие для других — словом сказать, в период с 1874 до 1876 гг., касса банка была вполне опустошена по отношению наличных денег. До 1876 же года князь Оболенский не имел никакого знакомства ни с Кронштадтским банком, ни, в частности, с компанией его заправителей. Во главе банка стоял Шеньян, человек, который вырос, так сказать, с малых лет на бирже, в делах биржевых, занимался ими, понимал торговлю до тонкости, но занимался не столько правильной, спокойной торговлей, сколько рискованными спекулятивными делами. Шеньян, по словам слышанных нами свидетелей, получил в наследство от отца долг в 100 тысяч рублей и экспедиторскую контору. С долгом постоянно продолжал свою деятельность. Экспедиторство давало 10—15 тысяч в год. Но другие дела его шли несчастливо, и дефицит скоро был около 300 тысяч рублей. Он потерял на Шиерере, на Эрбере и других; потерял на Боровичской железной дороге, на военном комиссионерстве. И при этом тратил на себя, по словам его личного секретаря Абеля, не менее 25 тысяч рублей в год. Таково было положение Шеньяна в 1876 году, когда он познакомился с князем Оболенским. С другой стороны, возьмите: кто такой был князь Оболенский? Князь Оболенский — дворянин Тульской губернии, богатый человек, получивший богатство по наследству, служивший успешно, дослужившийся в тридцать четыре года до статского советника, шталмейстера, от рождения окруженный всеми благами жизни, и вообще человек, скорее способный проживать деньги, чем наживать их. Князя здесь желают представить каким-то отчаянным спекулянтом. Это неверно. До 1875 года он ни с кем никаких дел не имел. Первое его дело, которое втянуло его вообще в не свойственную ему деловую сферу, было дело постройки Ряжско-Вяземской железной дороги. Он желал, чтобы эта дорога прошла через его имение. Вот что вызвало князя Оболенского к этому делу и сделало его подрядчиком.
Были люди, которые нашли выгодным привлечь его к этому делу, и он согласился, потому что дорога эта проходила через его имение; он нажил тут известную сумму. У него были угольные копи, и он стал заниматься этим делом как помещик.
Таковы два промышленных дела, которыми он занимался, таковы были его спекулятивные действия до 1877 г., до тех пор, когда он взял сухарный подряд. Для человека, глядящего на дело не предубежденно, я думаю, ясно, что князь Оболенский сделал большую ошибку, взяв этот подряд, потому именно, что он не представляется таким аферистом, каким желает выставить его обвинение. Оболенский не мог выполнить этого подряда с выгодою для себя при честном отношении к делу. Подряд нужно было окончить в четыре месяца, надо было выстроить множество зданий, сделать разные заготовки и за ту цену, которую он взял, надо было возить сухари до границы. Убытки оказались громадные. Для человека не знающего, не понимающего, никогда таких дел не ведшего, естественным последствием были те разорительные убытки, которые и понес Оболенский. Были у него служащие люди, достойные доверия, на которых он мог положиться, эти не нажились, а другие, на которых он также полагался, нажились в ущерб делу. Я должен возразить здесь Шеньяну, утверждавшему, что это дело, т. е. сухарное, потому дало убытки, что им занимался Оболенский, а что где он не занимался, оно дало барыши, хотя и небольшие. Оно так и не так. Дело должно было дать убытки само по себе, но не только вследствие незнания и неумения Оболенского; так, подряд сухарный в Бухаресте, которого не касался Оболенский, дал убытку около 200 тысяч рублей, им же заведовал Шеньян. Следовательно, я не думаю, чтобы дело это было такое выгодное, так легко давало возможность нажить огромные деньги. Судебное следствие не дало нам ясных данных, почему князь Оболенский взял этот подряд, но для меня важно установить то положение, что князю Оболенскому был дан подряд и что он уже взял к себе Шеньяна в компаньоны, как человека, более его понимающего дело. Скажите, есть ли основание предположить, что если бы князь Оболенский знал действительное положение Кронштадтского банка, он обратился бы к Шеньяну в 1877 г.? Он, человек богатый, берущий двухмиллионный подряд, за который дельцы дали бы ему отступного и стали бы исполнять, как другие, т. е. выигрывать на недоброкачественности сухаря и делать проделки. Какая была ему выгода идти к Шеньяну, если бы он знал, что Кронштадтский банк представляет одну руину, пустую лавочку, в которой торговали для прилива. Какая ему была радость обогатить банк, отдать ему дело, если и невыгодное в сущности, то выгодное по наличным деньгам, которые причитались по положению из казны. Если вспомнить, что вкладные билеты выдавались, в сущности, под такое обеспечение, как подряд в 800 тысяч пудов по 2 рубля 55 коп. за пуд, то Шеньян по сухарному подряду получил около миллиона рублей наличных денег за билеты. Затем был взят и другой подряд, за который также Шеньян получил наличных денег из интендантства около миллиона рублей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: