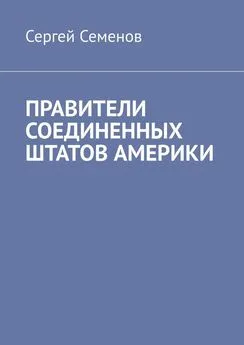Геннадий Есаков - Mens Rea в уголовном праве Соединенных Штатов Америки
- Название:Mens Rea в уголовном праве Соединенных Штатов Америки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Юридический центр»670c36f1-fd5f-11e4-a17c-0025905a0812
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-94201-232-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Есаков - Mens Rea в уголовном праве Соединенных Штатов Америки краткое содержание
В монографии впервые в отечественной литературе сделана попытка рассмотреть в историческом ключе на примере Соединённых Штатов Америки одну из центральных категорий англо-американского уголовного права – категорию mens rea как субъективную составляющую преступного деяния. Вплоть до сегодняшних дней проблематика mens rea рассматривалась в российской науке уголовного права лишь на уровне частных вопросов, тогда как комплексное осмысление категории mens rea, совершенно не похожей на российскую категорию вины, не просто углубляет наши познания о зарубежном праве, но и способно в ином свете отразить достоинства и недостатки традиционных представлений о субъективной стороне преступления в отечественной доктрине.
Придерживаясь историко-догматического подхода, автор подробно исследует истоки mens rea в общем праве Англии; рецепцию последнего американским правом и дальнейшие вехи развития категории mens rea на американской почве. Не ограничиваясь сугубо теоретическими вопросами, автор стремится показать практическое приложение в американском праве доктринальных концепций на примере учения о юридической ошибке, тяжкого убийства по правилу о фелонии и процессуальных аспектов доказывания mens rea. Особое внимание в работе уделяется анализу Примерного уголовного кодекса 1962 г. и современного американского уголовного законодательства.
Для научных и практических работников, студентов и аспирантов, а также всех интересующихся теорией и практикой зарубежного уголовного права и его историей.
Mens Rea в уголовном праве Соединенных Штатов Америки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, реальная достижимость и того, и другого варианта цели сдерживания при применении нормы о тяжком убийстве по правилу о фелонии достаточно спорны; как следствие, выбор одного из них не предопределён изначально, так что предпочитая один, с необходимостью избирается основывающаяся на нём теория, и наоборот.
В конечном счёте, в поиске базиса и теории непосредственной причины, и агентской теории следует обратиться к психологическому обоснованию тяжкого убийства по правилу о фелонии.
Теория непосредственной причины основывается на тезисе об объективном предположительном предвидении любым разумным лицом риска для человеческой жизни, проистекающего из совершения насильственной фелонии. [726]Согласно этому постулату, действующий предположительно неосторожен в игнорировании данного риска (или, по крайней мере, небрежен в его неосознании). В приводившейся ранее цепочке пенсильванских прецедентов данная идея отражается как нельзя более чётко: в 1947 г. суд счёл смерть потерпевшего «прямым и почти неизбежным последствием… входившим или должным входить в ожидаемое ими (т. е. обвиняемыми. – Г.Е.)» развитие событий; [727]в 1949 г. решил, что тот, кто «злоумышленно и с намерением учинить фелонию приводит в движение «цепь реакции» действий, опасных для человеческой жизни, должен считаться ответственным за естественные фатальные результаты таких действий», заметив попутно, что «когда лица, претворяющие в жизнь план ограбления, сами вооружены годным огнестрельным оружием, они показывают тем самым, что они ожидают встречное насильственное сопротивление и что для преодоления его они готовы убить всякого, кто встанет на их пути»; [728]а в последнем деле 1955 г. заключил, что совершающий фелонию ответственен за любую смерть человека, которая стала «прямым и почти неизбежным следствием… изначального преступного деяния». [729]Соответственно, разумная предвидимость риска для жизни и причинная связь между совершением фелонии и гибелью человека оправдывают применение нормы о тяжком убийстве по правилу о фелонии. [730]Думается, не может вызывать никаких сомнений то обстоятельство, что в этом подходе отчётливо прослеживается попытка психологического обоснования тяжкого убийства по правилу о фелонии на базе не просто общего положения о моральной упречности, а реального анализа субъективной составляющей содеянного. Последняя же в данном случае предположительно удовлетворяет пониманию злого предумышления, чем оправдывается осуждение виновного за тяжкое убийство.
Однако не менее убедительным сквозь призму психологического подхода выглядит обоснование и агентской теории. Согласно ему, для вменения обвиняемому последовавшей в результате совершения преступления смерти как тяжкого убийства недостаточно только разумной предвидимости рокового исхода; [731]необходимо ещё дополнительное субъективное условие-требование, заключающееся в том, что действия, причинившие смерть, должны быть совершены в способствование учинению фелонии и достижению преступной цели. [732]
Более того, примечательно, как через посредство психологического понимания тяжкого убийства по правилу о фелонии суды некоторых штатов, воспринявшие агентскую теорию, не отказались и от теории непосредственной причины, ограниченно инкорпорировав в свою практику охватываемые ею так называемые случаи «щита» («shield» cases ). [733]Под последними понимаются ситуации, связанные с причинением смерти лицу, используемому обвиняемым в качестве «щита» от пуль при совершении фелонии или бегстве после оного. [734]Соответственно, поскольку потерпевший гибнет от рук третьих лиц (прочих потерпевших, посторонних участников перестрелки или полицейских), вменить учиняющему фелонию такую смерть на основе доктрины тяжкого убийства по правилу о фелонии в рамках его агентской теории невозможно. Тем не менее, многие штаты, придерживаясь данной теории, как прямо, [735]так и obiter dictum [736]признали допустимым приложение к рассматриваемым случаям нормы о тяжком убийстве по правилу о фелонии, обосновывая это не просто предвидимостью рокового исхода, но даже предположительным наличием у обвиняемого самого по себе злого умысла относительно смерти потерпевшего. К примеру, в одном из первых техасских решений, связанном со случаем «щита» и часто цитируемом в судебной практике других штатов, суд решил, что обвиняемый, приведший «в движение силу, которая вызвала гибель пострадавшего… виновен ( culpable ) настолько же, как если бы он совершил деяние (имеется в виду причинил смерть. – Г.Е .) своими собственными руками». [737]Верховный Суд штата в Пенсильвании прямо признал лицо, использующее потерпевшего в качестве «щита», обладающим точно выраженным злым умыслом относительно его гибели, [738]а в Калифорнии счёл излишним даже прибегать к норме о тяжком убийстве по правилу о фелонии в данной ситуации, найдя, что «использование его (потерпевшего. – Г.Е.) в качестве щита даёт более чем достаточную основу для вывода о злом умысле» и для обоснования осуждения за, говоря условно, «обычное» тяжкое убийство с «обычным» злым предумышлением как противополагаемое тяжкому убийству по правилу о фелонии. [739]Такое восприятие теории непосредственной причины и её «сплавление» с агентской теорией на базе психологического понимания тяжкого убийства по правилу о фелонии весьма показательно.
Итак, вне зависимости от решения вопроса обоснование какой из двух теорий кажется убедительнее или, вернее, достаточно убедительным для допустимости применения нормы о тяжком убийстве по правилу о фелонии, в их развитии и соперничестве очевидно проявляется разработка иного подхода, более углублённо по сравнению с понятиями конструктивного злого умысла и строгой ответственности отражающего реальную субъективную составляющую содеянного.
Подводя итоги, можно констатировать, что с разработкой концепции mentes reae в теоретическом обосновании тяжкого убийства по правилу о фелонии произошли принципиальные изменения.
На смену ранее единообразно господствовавшему понятию конструктивного злого предумышления с его оценкой скорее моральной упречности, чем реальных проявлений психической деятельности, пришло более детальное исследование формально-юридического базиса тяжкого убийства по правилу о фелонии.
Это выразилось, во-первых, в обосновании данного института посредством использования идеи строгой ответственности в части, касающейся причинения смерти, и, во-вторых, в выработке подхода, который (хотя и с известной долей условности) может быть назван психологическим. В нём, как нетрудно увидеть, выразилось ставшее господствующим в рассматриваемое время направление в сторону более тонкого анализа психического элемента преступления, что явилось, в свою очередь, следствием смены парадигм в общей теории mens rea.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


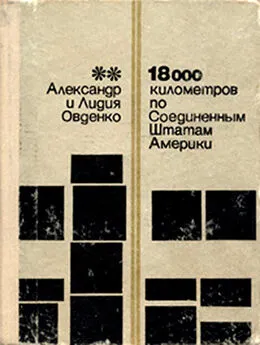
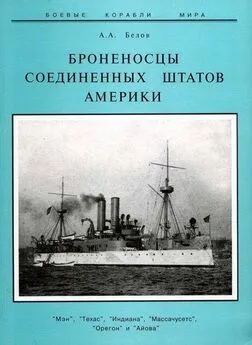
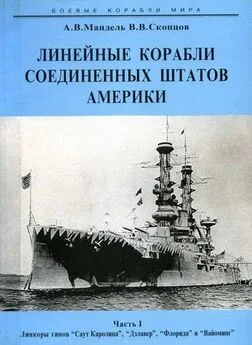
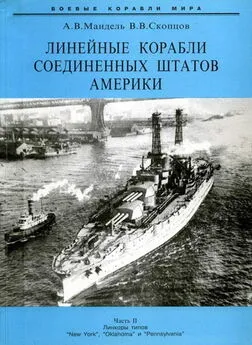
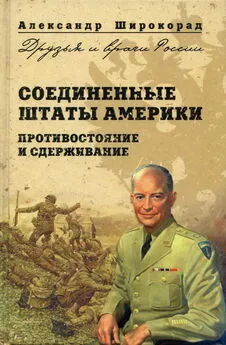
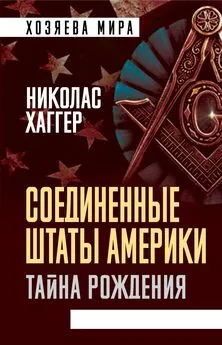
![Майк Резник - Запрос по торгам о Соединенных Штатах Америки [ЛП]](/books/1148381/majk-reznik-zapros-po-torgam-o-soedinennyh-shtatah.webp)