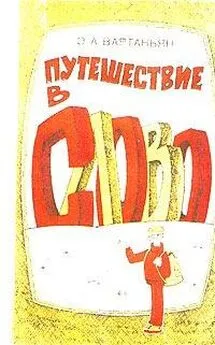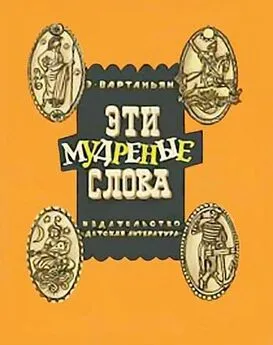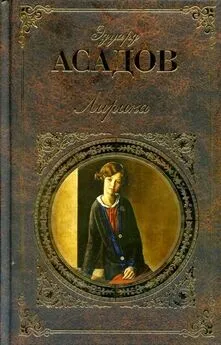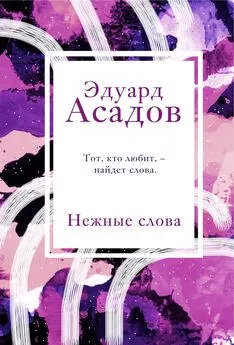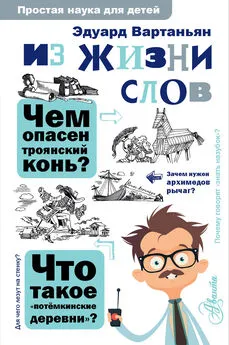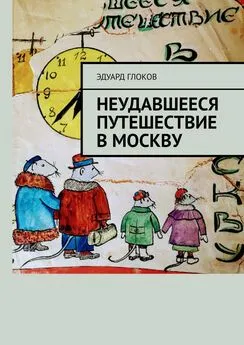Эдуард Вартаньян - Путешествие в слово
- Название:Путешествие в слово
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Просвещение
- Год:1982
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуард Вартаньян - Путешествие в слово краткое содержание
Книга «Путешествие в слово» написана автором в лучших традициях научной занимательности. Она обогатит ваши знания о языке, пробудит стремление к новым открытиям в мире родной речи.
Путешествие в слово - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сравнение было неожиданным. Новый эвфемизм? Не полоумный, не дурак, а февралик. Право, оно не без успеха посоперничает с только что приведенными образными выражениями.
Оправданы ли подобные «вежливоговорения»?
Ответ напрашивается сам собой. Порою да, как в языке врачей. Порою «по великом раздумье», ибо иносказание не каждый раз бывает уместнее прямоты.
В документах, в беллетристике, в живой разгоэорной речи нередко попадаются на глаза и довольно пикантные эвфемизмы не менее пикантных табу.
Петр I предписывал дьякам и подьячим «самим проверять стрельбою два ружья каждый месяц… Буде заминка в войне приключится, особливо при баталиях, по нерадению дьяков, бить оных кнутом нещадно по оголенному месту».
«По тому месту, откуда ноги растут», как определит позднее Помяловский ту часть бурсацкого естества, что частенько отведывала розог.
Но имеются еще и такие эвфемизмы, рекомендовать которые значило бы сделать вас посмешищем для собеседников.
Одно время помещичье-мещанская среда слепо копировала «заграницы» – и галантную форму обхождения, и наряды, и способ кудревато выражаться. Атмосфера, язык французских салонов, где под словами «наперсник граций» разумели зеркало, а под «удобством собеседования» кресло, перенесенные на русскую почдеу, стали предметом энергичного осуждения со стороны передовой интеллигенции, виднейших наших писателей. Склонность дворянок и мещанок во дворянстве к изысканной фразеологии высмеял Гоголь в «Мертвых душах».
«Еще нужно сказать, что дамы города N отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: „я высморкалась, я вспотела, я плюнула“, а говорили: „я облегчила себе нос, я обошлась посредством платка“. Ни в коем случае нельзя было сказать: „этот стакан или эта тарелка воняет“. И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, а говорили вместо того: „этот стакан нехорошо ведет себя“ или что-нибудь вроде этого».
Иначе говоря (словами пушкинской «Эпиграммы»):
Нельзя писать:
«Такой-то де старик,
Козел в очках, плюгавый клеветник,
и зол, и подл»: все это будет личность.
Но можете печатать, например,
Что господин парнасский старовер,
(в своих статьях) бессмыслицы оратор,
Отменно вял, отменно скучноват,
Тяжеловат и даже глуповат;
Тут не лицо, а только литератор.
Следует ли относить к эвфемизмам язык кода, шифра и других видов маскировки подлинного значения слова? Как быть, например, с танком?
В начале 1916 года в Хетвильде (Англия), в присутствии высших военных чинов, было проведено испытание «большого вилли» – бронированного автомобиля на гусеничном ходу. Боевая машина пошла в серийное производство, а военные чины стали подыскивать стальным чудовищам новое имя. Название должно было сохранить в секрете их назначение, и в то же время казаться правдоподобным для постороннего наблюдателя.
Было предложено три наименования: цистерна, резервуар и танк («бак»). Остановились на последнем. Погруженные на железнодорожные платформы, покрытые брезентом, танки впрямь напоминали огромные баки, о назначении которых вряд ли кто мог догадаться. Военная тайна была сохранена.
Но эвфемизм ли танк? Единого мнения на этот счет нет.
И можно ли, к примеру, имя нашей прославленной в годы Великой Отечественной войны «катюши» считать маскировочным названием реактивного орудия? Видимо, следует разграничить солдатское ласковое прозвище и наименование, официально данное бронированной машине в целях дезориентации противника.
ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ,
Знакомьтесь: антонимы. Слова в русском языке могут быть связаны не только синонимическими отношениями, но и антонимическими.
В языке нет единичного синонима, ибо тогда он вовсе не синоним, который можно заместить другим, а просто одно-единственное незаменяемое слово. Так же обстоит дело и с антонимами. Прежде чем какому-то слову выпадет честь титуловаться антонимом, оно должно обрести своего супротивника – слово с противоположным значением. Собственно, это условие отражено в самом его названии, образованном от греческих анти – «против» и онима – «имя».
Антоним – противоименный, а точнее, противознач-ный. К антонимам прибегают, когда хотят обозначить противоположные, контрастные явления.
Наши новые знакомцы могут обозначать полярные качества или состояния: сильный – слабый, твердый – мягкий, весело – грустно, мелко – глубоко, талантливый – бездарный.
Могут называть контрастные понятия времени: день – ночь, утро – вечер, рано – поздно, восход – закат, мгновение – вечность.
Могут обозначать противоположные явления из жизни природы и общества: небо – земля, мир – война, труд – безделье, жизнь – смерть.
Они могут выражать все понятия, имеющие своих антагонистов: верх – низ, вперед – назад, смелость – трусость, бедность – богатство, дешевизна – дороговизна, свой – чужой, казнить – миловать, шептать – кричать, авангард – арьергард.
Принято считать, что простое противопоставление, достигаемое «приклеиванием» к слову приставок не-, без-, анти-, контр-, противо-, псевдо– и т. л. (хороший – нехороший, полезный – бесполезный, религиозный – антирелигиозный, революция – контрреволюция, действие – противодействие, наука – псевдонаука), еще не превращает эти слова в антонимы. А потому-де к антонимам следует относить лишь такие слова, корни которых различны.
Стоп! К подобному утверждению некоторых учебников надо подойти с осторожностью. Уже не раз мы убеждались, что нет правил без исключений. А чем не чистой воды такие антонимы, как: начало – конец, сладкий – соленый? Между тем эти пары – слова одного корня. Что это так, вам шутя докажет любой этимолог. Историческое развитие значений слов превратило их в слова противозначные.
Антонимы, так же, как омонимы и синонимы, тесно связаны с явлением многозначности. Проявляется это в том, что, выступая в различных значениях, одни и те же слова могут входить в разные антонимические пары. Слово худой в одном значении имеет антоним полный, в другом – толстый, затем – хороший, затем – целый. Если у слова худой антонимами могут выступать; полный, толстый, хороший, целый, то, следовательно, худой входит в четыре синонимических ряда.
Первый ряд, противопоставляемый по значению полному, займут: худой, тощий, поджарый, сухой, сухощавый, сухопарый (второй ряд противопоставляется толстому, третий – хорошему, четвертый – целому).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: