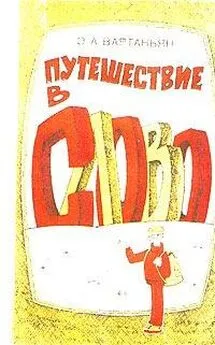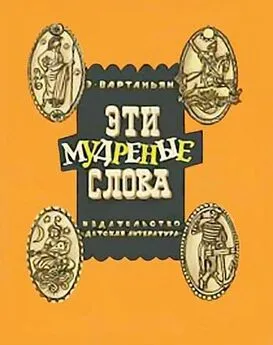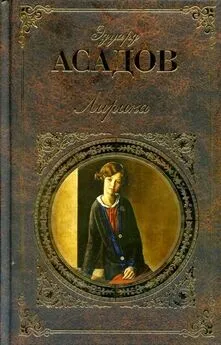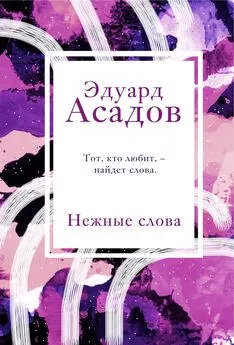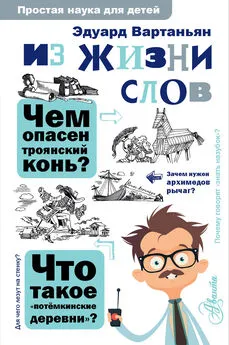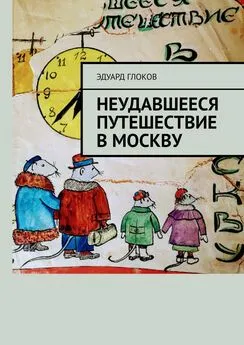Эдуард Вартаньян - Путешествие в слово
- Название:Путешествие в слово
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Просвещение
- Год:1982
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуард Вартаньян - Путешествие в слово краткое содержание
Книга «Путешествие в слово» написана автором в лучших традициях научной занимательности. Она обогатит ваши знания о языке, пробудит стремление к новым открытиям в мире родной речи.
Путешествие в слово - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Давно ли заметили эту нескладеху-поговорку? Давно. На зтот промах безвестного переводчика указал еще А. С. Пушкин, блестящий знаток французского. Но такова уж сила привычки в языке: прошло двести лет, а мы все еще говорим: «Ты не в своей тарелке» – в смысле: «Ты не в себе», «Странное у тебя состояние».
Я написал «двести лет», и это не ошибка. Выражение неоднократно встречается еще в журнале Новикова «Живописец» за 1775 год. Но вот характерно: охотно прибегая к этому иносказанию, мы перестаем ощущать то нелепость. Аномальный фразеологический оборот как бы узаконился в нашей речи.
Когда французский писатель Поль Моран увидел, как деревел его сочинения на английский язык американский поэт Эзра Паунд, то он схватился за голову.
По тексту один из персонажей, входя в комнату, «приподнял портьеру». Американец, не задумываясь, перевел так: «Он вошел, неся на руках привратницу». Переводчик не сумел правильно перевести одинаково обозначающееся на письме во французском и английском слово portiere. Но если в английском это только «портьера», во французском еще и «привратница». Да еще и «самка с детенышами». Представляете, какую возможность упустил переводчик для сведения ситуации к полной бессмыслице: «Он вошел, неся на руках самку с детенышами»!
Если парижане после окончания войны в течение многих месяцев ели быстро черствеющий хлеб необычного желтого цвета, то этим они были обязаны не булочникам, а, как это ни странно, переводчику, недостаточно хорошо освоившемуся с американизмами. Специалист, которому было поручено сделать американцам значительный заказ пшеницы, употребил слово корн, что, верно, по-английски «зерно», но для американцев означает кукурузу.
Во время второй мировой войны в немецкой разведывательной службе допустили переводческий «промах», который имел серьезный отголосок в окружении Гитлера. Одна испанская подпольная торганизация объявила о скорой встрече Рузвельта с Черчиллем в Касабланке. Немцы, переведя дословно, получили – «Белый дом» (Каса бланка), и, таким образом, в нацистские верхи было переданЬ, что британский премьер собирается в Вашингтон, в то время как он ехал в Африку, в марокканский город, Касабланку, (Эти сведения также почерпнуты из еженедельника «За рубежом».)
Памятно требование Фридриха Энгельса к переводчикам трудов Карла Маркса. Показав в своей статье, что перевод первого тома «Капитала» на английский язык не сохранил все совершенство оригинала, Энгельс писал: «Для перевода такой книги недостаточно хорошо знать литературный немецкий язык. Маркс свободно пользуется выражениями из повседневной жизни и идиомами провинциальных диалектов; он создает новые слова, он заимствует свои примеры из всех областей науки, а свои ссылки – из литератур целой дюжины языков; чтобы понимать его, нужно в совершенстве владеть немецким языком, разговорным так же, как и литературным, и, кроме того, знать кое-что и о немецкой жизни».
Таким образом, идеальный переводчик не тот, кто сумеет дословно перевести текст с одного языка на другой. Это будет всего лишь мертвая фотография. Тут нужны рука и чутье художника, чтобы передал он не столько букву, сколько дух произведения, сохранив его национальный колорит и выразительность, изложив строй и особенности чужой речи средствами своего родного языка. Не буква, но дух!
Об этом писал Вольтер: «Горе кропателям дословных переводов, которые, переводя каждое слово, притупляют смысл. Именно здесь можно сказать, что буква убивает, а дух животворит».
Об этом писал Белинский: «Каждый язык имеет свои, одному ему принадлежащие средства, особенности и свойства… Близость к подлинному состоит в передашш не буквы, а духа создания».
Этот «дух» должен безошибочно улавливаться переводчиком, который, исходя из возможностей языка, определяет каждый раз самые уместные приемы передачи «чужого» на «своем».
А в арсенале переводческих средств имеются: идентиз-мы – такие интернациональные обороты, которые приняты во многих языках, а поэтому полностью сохраняют и свой смысл, и свой образ: лить крокодиловы слезы, ахиллесова пята, волк в овечьей шкуре; аналоги – равнозначные выражения, но отличающиеся друг от друга образами: везти сов в Афины (греческое), ехать в Тулу со своим самоваром (русское), везти уголь в Ньюкасл (английское), тмин везти в Керман (иранское); описательный перевод, истолковывающий смысл иноземного слова или выражения: жилет – безрукавная короткая поддевка до поясницы (словарь Даля); у него под чашей есть еще полчаши – не все сказал до конца, что-то скрыл; калькирование – буквальный перевод по частям чужого слова. Так появились в нашем языке предмет (калька латинского объ-ектум), разбить наголову (немецкое), хладнокровие (французское). Есть и еще ряд других возможностей веревода.
Но вот, помните, Пушкин о своем Онегине?
Я мог бы пред ученым светом Здесь описать его наряд; Конечно б это было смело, Описывать мое же дело; Но панталоны, фрак, ншлет, Всех этих слов на русском нет.
Давние «варваризмы» прекрасно остались жить в вашем лексиконе и ныне не требуют пояснений. И хвала поэту, что не попытался прибегнуть он к доморощенным аналогам или описательным красотам типа: «панталоны – это исподники»; или «они – как штаны, только теснее брюк».
В то же время вряд ли мы попрекнем Эразма Роттердамского за то, что вычитанную им у Плутарха поговорку называть корыто корытом он перевел расширительно: называть вещи своими именами. Француз Монтескье передал латинское, встречающееся у Цицерона выражение поднимать бурю в ложке для жертвенных возлияний вина в бурю в стакане воды. В наш язык это крылатое речение пришло без изменения, а вот англичане посчитали нужным стакан воды заменить чайной чашкой.
А чем не удачен русский эквивалент с глазу на глаз («быть, говорить наедине, без свидетелей») немецкого выражения, буквально переводимого между четырех глаз или под четырьмя глазами, английского – лицом к лицу, французского – голова к голове. Французы скажут: не большому кораблю большое плавание, а хорошему коту хорошую крысу, не он – вылитый отец, а это его отец, совершенно выплюнутый.
В различных языках часто может не совпадать смме-т даже таких, казалось бы, устойчивых формул, как Д рый день! Если немец, француз, итальянец, услъпи «Гутен таг!», «Бон жур!», «Бон джорно!», воспримут как вежливое приветствие, то англичанин в «Гуд деы!» усмотрит невежливое прощание.
Известный писатель С. Л. Львов, прочтя мою книгу «Рождение слова», поделился соображениями, имеющими прямое касательство к тонкостям перевода. «К очерку „Индюк“, – писал он, – могу сообщить любопытное дополнение. В одном из прозаических произведений Г. Гейне есть фраза, которую переводчики, не вполне понявшие смысл, переводили так: „Я так же не был в Калькутте, как калькуттское жаркое, которое я вчера ел на обед“. Ничего смешного в этом не было. Но „калькуттское жаркое“ – это жаркое из „калькуттенхун“ (калькуттской курицы), как называли в старину по-немецки индейку. Перевод, сохраняющий комизм гейневской фразы, должен звучать: „Я так же не был в Индии, как индейка (или „индюшка“), которую я ел вчера на обед“. Помимо комического эффекта, эта фраза – в оригинале и в переводе – показывает, что Гейне знал о происхождении этой птицы не из Индии».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: