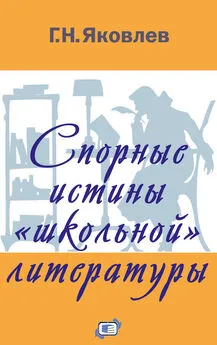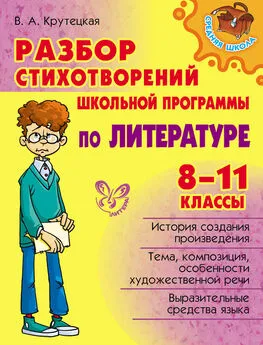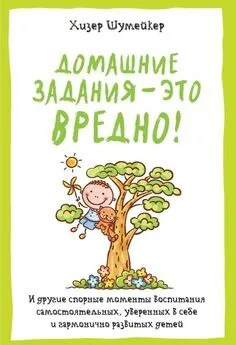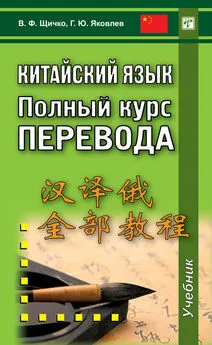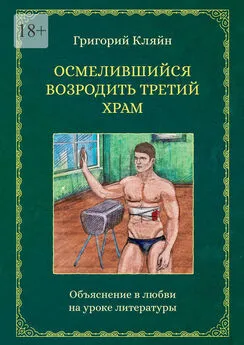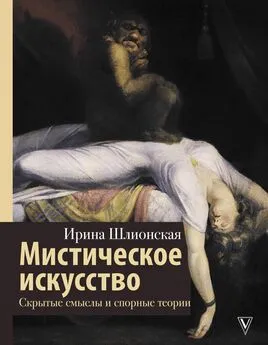Григорий Яковлев - Спорные истины «школьной» литературы
- Название:Спорные истины «школьной» литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ТеревинфDRM
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-222-17954-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Яковлев - Спорные истины «школьной» литературы краткое содержание
Вошедшие в книгу эссе публиковались в журнале «Литература в школе», газете «Литература», «Учительской газете», «Литературной газете» и др. и вызвали живой отклик со стороны учителей и литературных критиков. В настоящем издании наиболее значимые публикации впервые собраны вместе и, при необходимости, доработаны.
Для преподавателей средних учебных заведений, методистов, студентов педвузов, а также для всех неравнодушных к отечественной классической литературе.
Спорные истины «школьной» литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако погромы, садизм, издевательства – всё это коснулось не только евреев: «Пожары обхватывали деревни; скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте… Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу…» И во всех этих злодеяниях, не знающих меры и предела, ведущую роль играет герой повести Тарас Бульба, для которого «одним из главных достоинств рыцаря» были подвиги «в ратной науке и бражничестве».
Его дело – война. Как семьянин он едва ли может служить примером. Заботливой жене, с которой он виделся всего два-три дня в году, Тарас успевал нанести оскорбления и побои: «Да пропади она…» При встрече после долгой разлуки с сыновьями он устраивает «испытательное» мордобитие с ними и непечатно бранит такую «дрянь», как «академия, книжки, буквари и философия». Предательство отвратительно, но застрелить своего сына и отказаться (несмотря на просьбу Остапа) по-христиански предать его тело земле – поступок, который в советских учебниках всегда трактовался как образец истинного патриотизма и силы духа, – можно объяснить, но трудно принять душой и сердцем. Подобные поступки и идеи весьма импонировали пропагандистам времен коммунистического тоталитаризма. Павлики Морозовы, Любови Яровые, Марютки предавали, убивали, отдавали на растерзание мужа, сына, отца, любимого во имя идеи, нередко ложной, и прославлялись как герои. Но сейчас, кажется, проблема чувства и долга решается не всегда классически прямолинейно – другая эпоха.
Невозможно без содрогания читать о средствах, которыми пользуется непримиримый и агрессивный полковник Бульба, воюя с жителями городов и деревень. Он и прежде «самоуправно входил в села… сам с своими козаками производил расправу», а после гибели Остапа «даже самим козакам казалась чрезмерною его беспощадная свирепость и жестокость». Вот уже закончилось противоборство: казаки заключили мир с поляками. Страсти утихли, и лишь один наш герой со своим полком продолжал бесчинствовать. Последняя цитата из повести: «А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать местечек, близ сорока костелов… разграбил богатейшие и лучшие замки; распечатали и поразливали по земле козаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах; изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. „Ничего не жалейте!“ – повторял только Тарас. Не уважили козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями… Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя». Неужели ко всему этому читающие дети останутся равнодушными и должны будут сладко воспевать героического Тараса?
Вот некоторые очень существенные стороны изучаемого в 6-м или 7-м классе произведения. Если учесть, насколько талантливо оно написано, то отпадут сомнения в том, что ни одно слово Гоголя, ни одна мысль не останутся незамеченными при сосредоточенном чтении. А так как на приведенных мною описаниях и рассуждениях обычно методисты и учителя не фиксируют внимания, то подростку приходится самому переживать прочитанное, иногда прибегая к помощи родителей, которые далеко не всегда в состоянии верно расставить нравственные акценты. Зато в упомянутом учебнике они четко расставлены в последнем «задании»: «Можете ли вы назвать произведения Гоголя, которые были восприняты вами с таким же наслаждением?»
Когда-то Пушкин, отвечая на критику, воскликнул: «Как будто литература и существует только для 16-летних девушек! Вероятно, благоразумный наставник не даст в руки ни им, ни даже их братьям ни единого из полных сочинений классического поэта, особенно древнего. На то издаются хрестоматии, выбранные места и тому подобное…» Пушкин отстаивал всего лишь право на легкую эротику. Мы ведем речь о более серьезных вещах. Конечно, не для нынешних шести– или семиклассников писал и Гоголь своего «Тараса Бульбу», и не ему сейчас адресован мой упрек, а тем «наставникам», которые, подчиняясь традициям, из творений великого писателя выбрали для воспитания ребят эту повесть.
Насилие, разжигание войн, непомерная жестокость, средневековый садизм, агрессивный национализм, ксенофобия, религиозный фанатизм, требующий истребления иноверцев, непробудное пьянство, возведенное в культ, неоправданная грубость даже в отношениях с близкими людьми – те ли это качества, без явного осуждения представленные в повести, которые помогут пробудить добрые чувства у детей и без того не слишком ласкового XXI века? Дайте срок – ребята подрастут и авось дозреют до собственного осмысления «Тараса Бульбы». А пока следовало бы сказать школьнику (почти по Гоголю): «А поворотись-ка, сын… к другой книге».
«Ему судьба готовила путь славный, имя громкое…»
«Статья о Некрасове? Почему вдруг? Разве юбилей? Да, кажется, был какой-то, но ведь прошел…» Я живо представил себе возможную реакцию редактора, потому что в моей практике прецедент был. Однажды я принес в одну из редакций статью о поэме Александра Блока [5], включаемой во все школьные программы. Удивленный заведующий отделом школ встретил меня теми словами, которыми я начал первый абзац. Статью о Блоке напечатала другая газета – «Литература», а потом цитаты из нее были включены в некоторые современные учебники для 11-го класса.
Как мы любим юбилеи! Бывает, растрезвонит пресса о каком-нибудь литературном середнячке только потому, что ему стукнуло 50 или 60 лет.
Семь речей ему сказали,
Все заслуги перечли,
И к Шекспиру приравняли,
И Гомером нарекли…
Но великим поэтам всех времен не требуется стоять в общей очереди, ожидая, когда их вспомнят и, как говорил Маяковский, «в грядущем икнут». К этим великим относится и Николай Алексеевич Некрасов. А юбилей? Да, был, да, прошел. Скромно. Не в том дело.
Некрасов много страдал при жизни – сначала от бедности и непризнанности, позднее – от бедствий народных, от неудовлетворенности собой, от собственных ошибок, наконец – от тяжелой болезни. Страдает и после смерти, несмотря на официальное признание и изучение его произведений во всех школах России.
Современники поэта по-разному относились к нему: близкие по политическим и эстетическим принципам – уважительно, иногда восторженно, идейные противники – иначе. Иван Тургенев, рассорившись с любимцем демократической молодежи, раздраженно открестился от его стихов, «провонявших мужицкими сапогами и кислой капустой», но спустя годы, очевидно, раскаявшись, пришел на поклон к умирающему поэту. Всё это хорошо известно. Приведу менее растиражированное высказывание другого великого современника Некрасова – Федора Михайловича Достоевского, не разделявшего политических пристрастий «крестьянского демократа». По словам Анны Григорьевны, жены Достоевского, он «высоко ставил» Некрасова. «Всю ту ночь он читал вслух стихотворения усопшего поэта, искренне восхищаясь многими из них и признавая их настоящими перлами русской поэзии» («Воспоминания», ч. VIII, гл. 7).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: