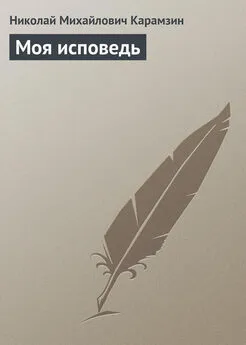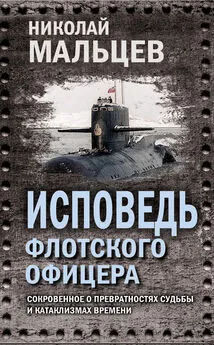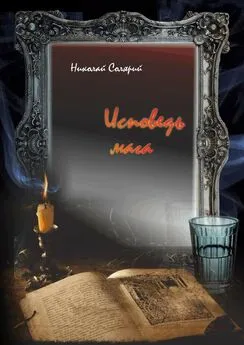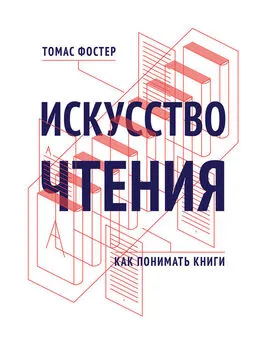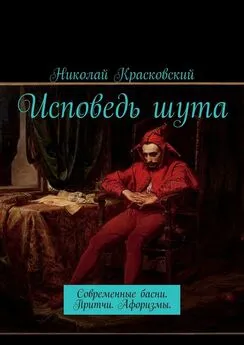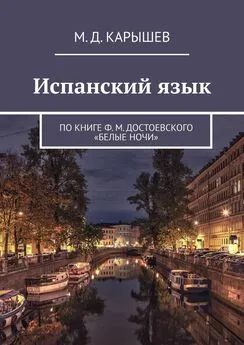Николай Жаринов - Исповедь литературоведа. Как понимать книги от Достоевского до Кинга
- Название:Исповедь литературоведа. Как понимать книги от Достоевского до Кинга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-107167-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Жаринов - Исповедь литературоведа. Как понимать книги от Достоевского до Кинга краткое содержание
Автор этой книги, филолог, журналист и блогер Николай Жаринов, рассказывает о книгах, которые сопровождали его на протяжении самых значимых и переломных событий в жизни. Мы видим, как с возрастом меняется отношение к «Преступлению и наказанию» Достоевского, почему книги Кинга становятся лучшими друзьями подростков, и как Бунину удавалось превращать пошлые истории в подлинное искусство.
Это исповедь, от начала и до конца субъективная, личная, не претендующая на истину. Спорьте, не соглашайтесь, критикуйте – ничто не возбраняется. Ведь по-настоящему литературу можно понять, только проживя ее через собственные эмоции.
Исповедь литературоведа. Как понимать книги от Достоевского до Кинга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если разбирать строку: «Комнату заволокло табачным дымом», то мы тоже сталкиваемся с определёнными нюансами. Не стоит забывать, что каждое слово в языке имеет своё звуковое выражение и свою ритмику. Так, например, глагол «заволокло» обозначает постепенное, долговременное действие. Это слово воспринимается так и из-за наличия полногласного сочетания, и из-за обилия слогов. Кроме того, это нейтральное предложение безличное. Объекта, совершающего действие, тут просто нет. Получается, что комната постепенно наполняется всё большим количеством табачного дыма. А Маяковскому нужно было совершенно другое.
Вернёмся к его строчке «Дым табачный воздух выел…». Тут есть чёткая персонификация. Действие выполняет сам дым. Это он «выел» воздух. В последних двух словах повторение одних и тех же согласных звуков (аллитерация) создаёт нужный эффект. Вы буквально испытываете это чувство. Вы задыхаетесь, ведь воздуха нет. Вместо него остался один только табачный дым.
Ощущение нехватки воздуха не оставляет вас на протяжении всего стихотворения. Этот лейтмотив дыхания с каждой новой строфой приобретает всё большую силу. Тот, кто хоть раз видел, как любовь превращается в руины, знает, что это за чувство, когда становится трудно дышать и каждый вздох – это тяжесть, гранитной плитой ложащаяся на тебя.
Ох уж эти дебри поэзии.
Двух поэтов люблю я больше всего в русской литературе. Это Маяковский и Заболоцкий. Такие разные, но удивительные мастера.
Вот и сейчас, написал строчку из Маяковского и не могу удержаться от того, чтобы дальше не продолжить говорить о поэте. Ведь ещё с десятого класса, когда я впервые вдумчиво прочёл его произведения, русский футурист стал для меня фундаментом всего восприятия художественного текста.
Для создания прекрасного образа не нужно много слов, не нужны развёрнутые многословные описания. Бывает достаточно и простых местоимений. Главное – правильная ритмика и последовательность слов. Дело в том, что искусство литературы ближе всего к музыке. И как в этом отношении прекрасна поэма «Про это». Особенно вот эта её часть.
Немолод очень лад баллад,
но если слова болят
и слова говорят про то, что болят,
молодеет и лад баллад.
Лубянский проезд.
Водопьяный.
Вид
вот.
Вот
фон.
В постели она.
Она лежит.
Он.
На столе телефон.
«Он» и «она» баллада моя.
Не страшно нов я.
Страшно то, что «он» – это я,
и то, что «она» – моя.
Казалось бы, что может быть проще строчки: «Страшно то, что «он» – это я, и то, что «она» – моя». Наречие, пара союзов, пара указательных местоимений, пара личных и одно притяжательное. Но ведь как бывает страшно, когда «она – твоя». Тот, кто хоть раз любил в своей жизни, не пропустит эту простую фразу. Её ёмкость бьёт точно в цель. Бьёт без промаха, как груша да черёмуха из стихотворения Осипа Мандельштама, которое он написал за полтора года до смерти в ГУЛАГе. В тот момент приближался конец его первого срока, и радость весны, предстоящего освобождения смешивалась в сознании поэта с ощущением, что это не конец его преследований, что всё только начинается, поэтому цветущие растения и напоминали ему расстрельную команду.
На меня нацелилась груша да черемуха —
Силою рассыпчатой бьет меня без промаха.
Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, —
Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина?
С цвету ли, с размаха ли бьет воздушно-целыми
В воздух убиваемый кистенями белыми.
И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется – смешана, обрывчива.
Но оставим русскую поэзию. Тут разговор долгий, на несколько книг хватит. Я ненавижу, когда литературу делят на роды и жанры. Это попытка систематизировать то, что невозможно представить в виде простой схемы. Язык – это живой организм, и когда мы раскладываем его «винтики», то получается, что мы препарируем труп. Это, конечно, занимательно, только жизни в этом нет. А если и соберёшь потом мёртвый текст по лоскутам, то всё равно творение доктора Франкенштейна выйдет.
Поэзия учит нас музыкальной составляющей языка и литературы, точности образов, пониманию того, что даже одно слово, вовремя сказанное, может изменить мировоззрение человека. И без этого понимания сути словесного искусства невозможна и проза.
Любой писатель отчасти должен быть поэтом, хоть может и не писать стихов. В противном случае мы получаем обычную графоманию, словесный ширпотреб.
Именно увлечение русской поэзией в последних классах школы сказалось на том, как я начал воспринимать прозаические произведения, уже обучаясь на филологическом факультете.
Многим, кто готовился к экзаменам по истории литературы, достаточно было знать сюжет и несколько фактов из биографии автора. Но меня это интересовало в меньшей степени. Сюжет – это, конечно, хорошо, но даже самую блестящую историю можно описать так, что её никто не будет читать. И с другой стороны, о самом банальном событии можно рассказать так, что оно превратится в шедевр искусства. За примером далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить «Лёгкое дыхание» Ивана Бунина.
Долгое время этот короткий рассказ оставался для меня загадкой. Он безумно понравился мне, но я не мог объяснить почему. Сюжет ведь до ужаса банальный, больше того, бульварный. Его и пересказать в одном предложении можно. Молодая девушка-гимназистка потеряла невинность с другом своего отца, начала спать с другими мужчинами, один из которых её убил после того, как она порвала с ним. Просто до ужаса, но не просто другое. Сама метафора произведения.
«Метафора – опасная вещь. С метафорами шутки плохи. Даже из единственной метафоры может родиться любовь». Это сказал мой любимый Милан Кундера, а он редко ошибается. Метафора – это частица Бога в том, как человек воспринимает мир. Именно она притягивает к себе все эти разрозненные случайные события в окружающей реальности и придаёт им смысл.
Метафора – то единственное, что человек может противопоставить вечности, залог краткосрочного бессмертия, из которого рождается искусство.
И у Бунина искусство рождается из метафоры дыхания.
Пошловатая история смерти Оли Мещерской начинается с конца. Перед нами уездное кладбище и могила главной героини. Ничего удивительного, нам сразу понятно, чем всё кончится.
«На кладбище над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.
Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.
В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне – фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
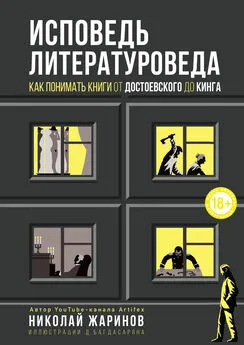

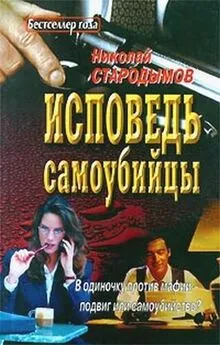
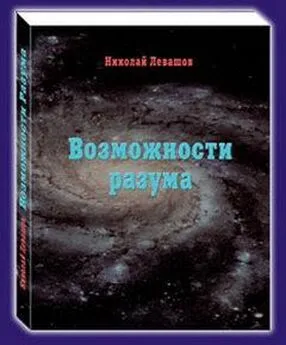
![Николай Леонов - Исповедь сыщика [сборник]](/books/513062/nikolaj-leonov-ispoved-sychika-sbornik.webp)