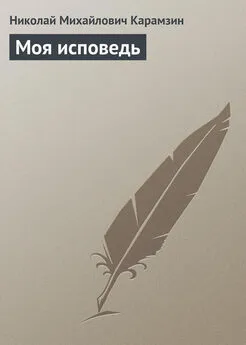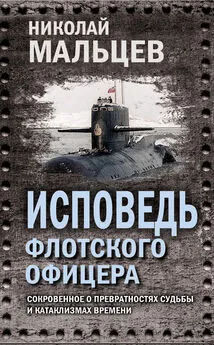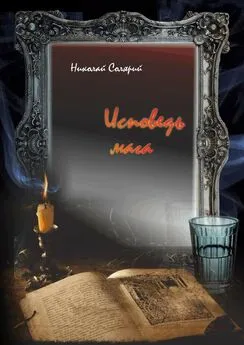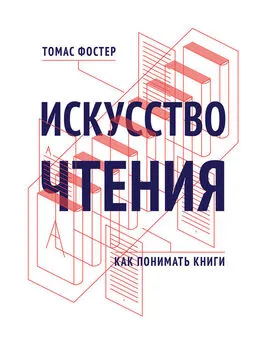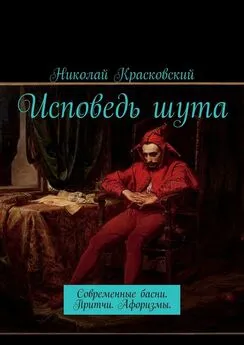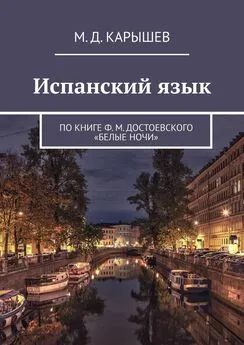Николай Жаринов - Исповедь литературоведа. Как понимать книги от Достоевского до Кинга
- Название:Исповедь литературоведа. Как понимать книги от Достоевского до Кинга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-107167-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Жаринов - Исповедь литературоведа. Как понимать книги от Достоевского до Кинга краткое содержание
Автор этой книги, филолог, журналист и блогер Николай Жаринов, рассказывает о книгах, которые сопровождали его на протяжении самых значимых и переломных событий в жизни. Мы видим, как с возрастом меняется отношение к «Преступлению и наказанию» Достоевского, почему книги Кинга становятся лучшими друзьями подростков, и как Бунину удавалось превращать пошлые истории в подлинное искусство.
Это исповедь, от начала и до конца субъективная, личная, не претендующая на истину. Спорьте, не соглашайтесь, критикуйте – ничто не возбраняется. Ведь по-настоящему литературу можно понять, только проживя ее через собственные эмоции.
Исповедь литературоведа. Как понимать книги от Достоевского до Кинга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это Оля Мещерская».
(Иван Бунин, «Лёгкое дыхание»)
Уже в самом начале автор загадывает нам загадку, ответ на которую мы получим только в самом конце. Но получим тоже не совсем обычным образом. Финальному откровению будет предшествовать долгий и глупый рассказ главной героини о сути женской красоты. К слову, вся информация была почерпнута ей из модного журнала.
«Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? – Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди.
Женщина эта – классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик, – она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она – идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская – предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов – и то, что однажды подслушала: однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной:
– Я в одной папиной книге, – у него много старинных, смешных книг, – прочла, какая красота должна быть у женщины… Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, – ей-богу, так и написано: кипящие смолой! – черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, – понимаешь, длиннее обыкновенного! – маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, – я многое почти наизусть выучила, так все это верно! – но главное, знаешь ли что? – Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, – ты послушай, как я вздыхаю, – ведь правда есть?
Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».
(Иван Бунин, «Лёгкое дыхание»)
Думаю, что именно этот отрывок лучше всего отображает ту силу, которой обладает метафора. Именно она приводит на кладбище классную даму главной героини. Она нужна ей, чтобы собственное существование обрело смысл, чтобы жизнь, бесцветная и никчёмная, наконец расцвела в лучах памяти о безвозвратной потере.
Рассуждение же самой Оли Мещерской о красоте лишено метафоры. Она только начинает жить и поэтому вся отдаётся ощущениям. Ей ещё не нужны никакие сложные скрытые сравнения. Её истина – пошлый текст из модного журнала, где есть только набор клише.
Вот что такое «чёрные, кипящие смолой глаза» или «чёрные, как ночь, ресницы» ? Это ведь просто стандартные фразы. Одинаковых чёрных глаз я, например, не встречал никогда. Да и смолой они точно не кипели. В ресницах важнее форма и длина, а цвет можно и под наряд выбрать. Что значит «длиннее обыкновенного руки»? Кто высчитывал тогда среднее арифметическое от длины человеческой руки, или стоит считать только руки женщин? Учитываем ли мы все народы и расы, или говорим только о центральной части Российской империи? Что значит «в меру большая грудь» ? На этот счёт среди всех ценителей красоты женского тела точно существуют разные мнения. Во всяком случае, я абсолютно похожих не встречал.
Ну и джекпот в конце. Рассуждение о лёгком дыхании из уст героини. Ну вот что может быть нелепее? « А ведь оно у меня есть, – ты послушай, как я вздыхаю, – ведь правда есть? » Как же я ненавижу такие разговоры. И сразу в памяти всплывают моменты, когда приходишь на свидание с удивительно красивой девушкой, но первое впечатление разбивается о темы разговоров, вращающиеся вокруг еды, макияжа и сплетен. Я даже в определённый момент начал применять специальную технику, чтобы не засорять голову ненужной информацией. Печально ведь, когда стихи Бодлера вытесняются из головы рассуждениями бывшей об удобстве различных видов трусов.
Долгое время перед сном я ставил себе в плеере записи пения китов. Засыпаешь под них идеально, звуки через короткое время легко воспроизводятся в твоей памяти, и в тот момент, когда начинаются пустые разговоры, ты просто вспоминаешь их. Слышишь уже не человека, а то, как разговаривают между собой киты. При этом краткосрочная память работает, ты легко можешь поддержать разговор, но утром ничего не вспомнишь. Идеальное преступление!
Вот и на этом отрывке из рассказа Бунина меня чуть было не выключило. Киты уже маячили на горизонте сознания, но были изгнаны с подступов авторским словом. Последней фразой в рассказе, которая переворачивает всё с ног на голову: «Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».
Тут и становится понятно, о чём это произведение. Это «лёгкое дыхание» – это почти неуловимое течение времени, жажда жизни, наша душа.
Человек умирает, но его дыхание, почти неуловимое, остаётся в этом мире, рассеянное в ветре, оно и треплет фарфоровый венок на могиле у подножия креста.
И пошленькая история красавицы из начала XX века с этим финальным аккордом автора вдруг превращается в откровение.
Вот она, настоящая сила искусства слова.
Бунин учит видеть эти детали, замечать то, что раньше было скрыто от глаз. И как хорошо, что в тот момент, когда я впервые открыл для себя Виктора Гюго, я уже успел проникнуться настоящей поэзией и прозой. Но есть ведь ещё и другая деталь. В книге важно не только то, что заключено внутри. Важна ещё обстановка и время. С «Отверженными» мне в этом плане безумно повезло.
По работе мне всё время приходится общаться с людьми, наверное, именно поэтому минуты одиночества особенно ценны. В эти моменты, когда ты наедине с собой, когда не нужно играть никакую социальную роль, можно быть по-настоящему честным. И нет лучшего фона для этого спасительного одиночества, чем руины древних цивилизаций. Необходимо только одно условие: на этих обломках истории нужно быть одному.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
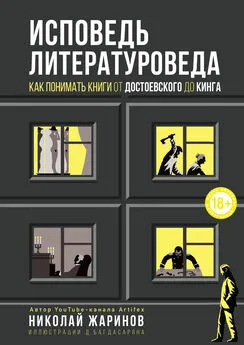

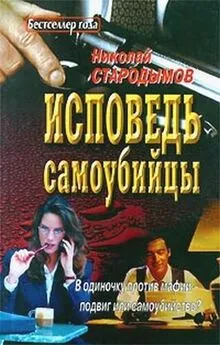
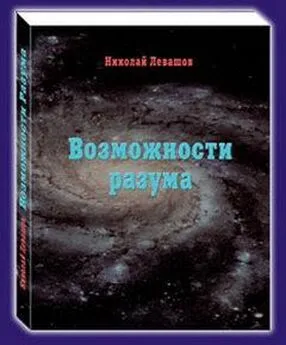
![Николай Леонов - Исповедь сыщика [сборник]](/books/513062/nikolaj-leonov-ispoved-sychika-sbornik.webp)