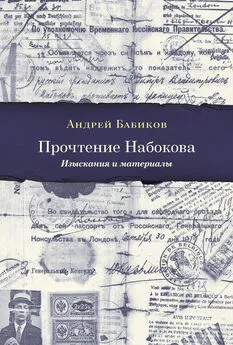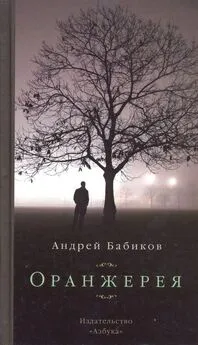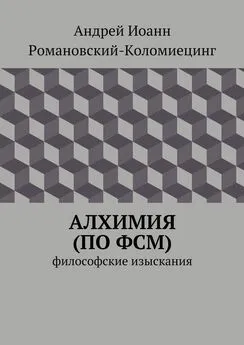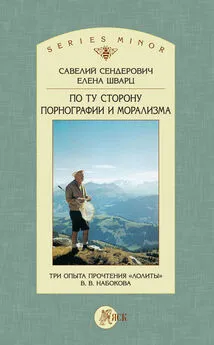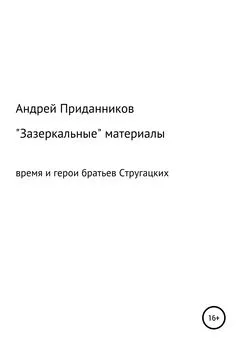Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Название:Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иван Лимбах Литагент
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-350-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы краткое содержание
Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты». Исходя из целостного взгляда на феномен двуязычного писателя, не упрощая и не разделяя его искусство на «русский» и «американский» периоды, автор книги находит множество убедительных доказательств тому, что науку о Набокове ждет немало открытий и новых прочтений.
Помимо ряда архивных сочинений, напечатанных до сих пор лишь однажды в периодических изданиях, в книгу включено несколько впервые публикуемых рукописей Набокова – лекций, докладов, заметок, стихотворений и писем.
Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К розыску различных прототипов в персонажах романа читателя подталкивает сам автор. В первой части упоминается лондонский психиатр Муди, смешавший в своем отчете Вадима Вадимыча и некоего «В. С.» (В. Сирина?), также русского эмигранта (20). Другой психиатр в той же главе, профессор Юнкер, назван «сдвоенным персонажем, состоявшим из мужа и жены» (22). Во второй части Анна Благово рассказывает приятельнице, что в «Подарке отчизне» помещены биографии Чернолюбова и Доброшевского (114). Так и странно-небрежное указание в самом начале книги о «трех или четырех женах» повествователя намекает на несущественность точного числа, поскольку все они сходятся, по-видимому, в одной единственной фигуре «Ты», его четвертой жены. К поиску прототипов подталкивают и многочисленные дразнящие noms parlants в романе.
Ключ к дешифровке имен в романе (а в этом отношении «Арлекины» являют собой классический роман à clef) предложил Омри Ронен, проницательно заметивший, что у Набокова «имена собственные функционируют так же, как и другой аллюзивный материал, но с большей долей междуязыковых каламбуров» [1288]и что в «Арлекинах» Набоков, «склеивая прототипы, сочиняет „лигатурные“ образы писателей и их произведений» [1289]. Ронен раскрыл несколько таких лигатур в романе, обнаружив, что в именах некоторых упомянутых в нем русских литераторов кроются имена англо-американских авторов и наоборот. Так, в имени Ивана Шипоградова совместились Иван Бунин и Торнтон Уайлдер (thorn – «шип»; – ton < town – «город») [1290], в имени Соколовского – Мережковский и Фолкнер ( англ. falcon – «сокол»), Ольден Ландовер совмещает Марка Алданова-Ландау и отчасти Одена [1291]. Ронен, однако, не коснулся другой группы персонажей, не литераторов, но лиц, так или иначе связанных с антидеспотической или шпионской деятельностью. При внимательном рассмотрении выяснятся, что не только имена, но и сами образы этих персонажей также чаще всего – лигатуры (в отличие от писателей, одноязычные), поддающиеся семантической, фонетической, аналитической или анаграмматической дешифровке. К примеру, покровитель, а возможно и настоящий отец Вадима Вадимыча, дипломат и «важный старосветский масон» (15) граф Старов, на уровне интертекстуальном вызывает в памяти чеховского доктора, а в реальном историческом плане романа указывает на Николая Ивановича Астрова (1868–1934), почти ровесника отца Набокова и его товарища по кадетской партии, масона, видного деятеля эмиграции, гражданского мужа графини Софьи Владимировны Паниной (и, вполне возможно, именно поэтому он становится в романе «графом»), в доме которой в Гаспре жили Набоковы перед эмиграцией из Крыма в Англию. Астров и Панина посещали Набоковых в Праге в мае 1930 года, о чем Набоков писал жене, а на его литературном вечере Астров сказал вступительное слово [1292]. Таинственные конфиденты Старова из Секретной Службы (упомянутые в пятой части романа) и его собственная, по-видимому, секретная деятельность также находят параллели с Астровым, участником подпольных организаций «Девятка» и «Правый центр» – первого антисоветского политического объединения, созданного в Москве в 1918 году [1293]. В образе отца пошловатой машинистки Любы Савич, «дочери известного социал-революционера», «раскаявшегося <���…> террориста» (91–92), «склеены» две политические фигуры – эсера-террориста Бориса Савинкова, в романе которого «То, чего не было» (1912–1913) герой – «кающийся террорист», и его политического антипода Никанора Савича (1869–1942), конституционного монархиста, члена Думы, ставшего в эмиграции членом-учредителем Народно-монархического союза и оставившего «Воспоминания». Этим соединением политических противоположностей объясняется, отчего изменившийся Серафим Савич перед смертью пишет биографию Александра Первого в двух томах. В реальном плане прототипом самой красавицы Любы Савич была фалерская любовница Набокова Новотворцева, замужняя дама, охотно слушавшая стихи молодого поэта (Люба Савич бредила стихами Вадима Вадимовича), выведенная в «Подвиге» в образе столь же пошлой особы Аллы Черносвитовой [1294].
Далее, друг Степанова Дмитрий де Мидов, создавший вместе с ним тайную антидеспотическую организацию и владевший особняком в Париже, в котором она разместилась, также, по-видимому, собирательный образ русского космополита и богатого либерала. С тем же литофаническим эффектом в нем проступают черты реального лица – кадета Игоря Платоновича Демидова (1873–1946), входившего в Париже в состав конспиративной антисоветской организации «Центр действия» и ставшего помощником редактора «Последних новостей». Его имя не раз встречается в письмах Набокова, а упомянутый в «Других берегах» особняк Демидовых находился по соседству с особняком Набоковых на Большой Морской улице. Наконец, Степан Степанов также отсылает сразу к двум фигурам: к заведующему литературно-художественным отделом «Современных записок» и соредактору (вместе с Фондаминским) журнала «Новый Град», писателю и философу Федору Степуну и к члену ЦК партии кадетов, министру Временного правительства (в которое входил и отец писателя), одному из основателей (вместе с Астровым) «Правого центра» [1295]Василию Александровичу Степанову (1872–1920). Любопытно, что фамилии Степанов и Степун соотнесены Набоковым не только по фонетическому принципу, как можно было бы подумать (и как соотнесены Савич и Савинков): в книге воспоминаний Степун указал, что «исконное начертание этой старо-литовской фамилии Степунесы, т. е. Степановы» [1296]. Примечательно, что в том же очерке памяти Амалии Фондаминской, который мы уже приводили, Набоков рассказывает, как Федор Степун просил его проверить верность английского перевода его романа «Николай Переслегин» и как набоковское ответное письмо с нелестным отзывом об этом переводе оказалось в руках Амалии Осиповны, которая была одной из переводчиц этой книги. Простые русские имена Федор и Степан соотнесены Набоковым по принципу эквивалентности, точно так же, как, скажем, редкие имена Серафима Савича и Никифора Старова; к тому же довольно переменить одну лишь гласную букву, чтобы имя Степан превратилось в Степун. Еще одним объяснением отчего Набоков выбрал для этого персонажа русскую фамилию Степанов, служит собственный выбор Фондаминским нейтрального псевдонима Бунаков.
Хотя наложение прототипических штрихов в портрете Степана Степанова и без того весьма прихотливо, Набоков этим не ограничивается и переносит некоторые черты Фондаминского на фигуру еще одного эмигранта, имеющего отношение к литературным и заговорщицким кругам, Осипа Львовича Оксмана. Его имя Вадим Вадимыч задним числом прочитывает как «человекобык» (от английского ox – бык и man – человек), связывая его с жертвами вивисекторских экспериментов доктора Моро в романе Уэллса. Принадлежащее Оксману (или Оксу, как иногда его называет повествователь, намекая, вероятно, на известного берлинского книгопродавца Закса) издательство «Боян» расположено в том самом особняке, в котором прежде размещалось подпольное общество де Мидова и Степанова. Он сам вспоминает, как в молодости состоял вместе с Бертой Абрамовной в террористической организации, готовившей покушение на премьер-министра, которое испортил Азеф (Фондаминский некоторое время входил в Боевую организацию эсеров, которой руководил Евно Азеф). Оксман рассказывает герою о выступлении Керенского в Думе – и с Керенским герой встречался в доме Степанова, как сам Набоков – в парижской квартире Фондаминского. Трагическая судьба Оксмана также указывает на обстоятельства смерти Фондаминского: Оксман погибает при «отважной попытке бегства – уже почти что сбежав, босой, в запачканном кровью белье, из „экспериментального госпиталя“ в нацистском лагере смерти» (107). Фондаминский погиб в Освенциме в 1942 году, в который попал, отказавшись от подготовленного для него плана побега (той самой, уже упомянутой матерью Марией) из госпиталя в концентрационном лагере под Парижем. Наконец, заключительным штрихом, соединяющим Фондаминского с Оксманом, служит упоминание в романе замечательной библиотеки последнего, которой, заняв Париж, вскоре «завладели немцы». Та же судьба постигла ценную библиотеку Фондаминского (ею в свое время пользовался и Набоков): она была вывезена из его квартиры гестаповцем «доктором Вейсом», тем самым, который захватил в Париже бесследно исчезнувшую богатейшую Тургеневскую библиотеку [1297].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: