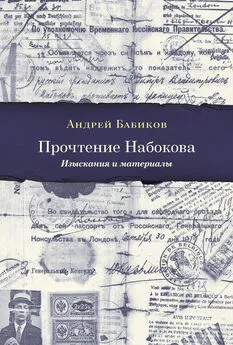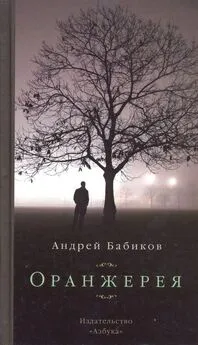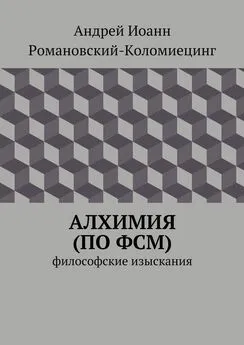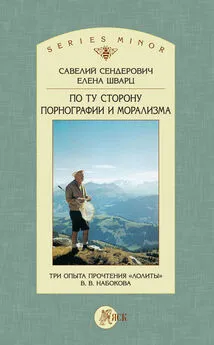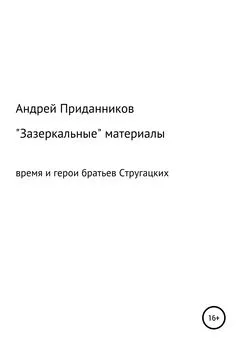Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Название:Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иван Лимбах Литагент
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-350-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы краткое содержание
Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты». Исходя из целостного взгляда на феномен двуязычного писателя, не упрощая и не разделяя его искусство на «русский» и «американский» периоды, автор книги находит множество убедительных доказательств тому, что науку о Набокове ждет немало открытий и новых прочтений.
Помимо ряда архивных сочинений, напечатанных до сих пор лишь однажды в периодических изданиях, в книгу включено несколько впервые публикуемых рукописей Набокова – лекций, докладов, заметок, стихотворений и писем.
Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кстати, какую нацию представляет этот загорелый старик с седыми волосами на груди <���…> – мне его лицо как будто знакомо.
«Ах, это Каннер, – сказала она. – Великий пианист и знаток бабочек, его лицо и имя всюду на афишных тумбах. Она как раз пытается раздобыть билеты на два его концерта – по меньшей мере. А там, прямо на том месте, где отряхивается его собака, в июне, когда пляж почти пуст, проводило время семейство П. (она назвала знатный старинный род). Они совершенно проигнорировали Айвора, хотя он знавал молодого Л. П. по Тринити. Теперь они перебрались вон туда. Только для избранных. Видите ту оранжевую точку? Это их купальная кабина. У самой «Мирана Палас».
Я ничего не сказал на это, хотя тоже знавал молодого П. и недолюбливал его.
В тот же день. Столкнулся с ним в уборной «Мираны». Встречен с энтузиазмом. Желаю ли я познакомится с его сестрой? Что у нас завтра? Суббота. Предложил прогулку к «Виктории» на другой день пополудни. Что-то вроде маленькой бухты справа от вас. Я там с друзьями. Вы, конечно, знаете Айвора Блэка. Молодой П. явился минута в минуту со своей очаровательной долголягой сестрой. Айвор – невозможно груб. «Идем, Айрис, ты забыла, что мы пьем чай с Раппаловичем и Чичерини?» В таком духе. Дурацкие нападки. Лидия П. помирала со смеху [1306].
Читатель должен догадаться, что отрывочные фразы переписаны повествователем из его старого дневника (упоминаемого ранее), сообразить, что великий пианист и энтомолог – отражение самого Набокова, выяснить, что его фамилия образована от немецкого Kenner – «знаток», раскрыть, что Раппалович и Чичерини указывают на Раппальский договор 1922 года (время действия этой сцены), подписанный советским министром Чичериным, чья фамилия происходит от итальянца Чичерини. Набоков погружает читателя в гущу событий нескольких дней, но сам не становится, так сказать, его чичероне. Он даже не раскрывает инициалы кембриджского знакомого героев. Вместе с тем эти темные на первый взгляд заметы абсолютно логичны и составлены таким образом, что их художественный (и документальный) эффект не пропадает. С небывалой краткостью очерчен конфликт Л. П. и Айвора, который терпеть не мог так называемые «сливки общества» и английских снобов. Читательское разочарование во всем мире от «Лауры» во многом объясняется не столько ее незавершенностью, сколько непониманием и неприятием этого позднего набоковского стиля – читатели хотели видеть что-то вроде новой «Лолиты» или, на худой конец, куски новой «Ады», а получили очень сжатые эпизоды в нескольких коротких главах с изложением странного мыслительного эксперимента героя (также опирающегося на дневниковые записи), с как будто выпавшими эпитетами, описаниями, сравнениями, к которым привык – или полагает будто привык – читатель Набокова.
Схожим с приведенной сценой образом мимолетное упоминание названия автомобильной фирмы в последней главе «Сквозняка из прошлого» таит для внимательного читателя букет историко-литературных ассоциаций. Повествователь упоминает спешно отъехавший от гостиницы автомобиль с собакой внутри и дамой за рулем: «На заднем сидении „Amilcar’a“, которым правит жена собачника, уезжающая обратно в Трюкс, спит маленький шпиц». В комментарии А. Долинина сообщается: «„Amilcar“ – вымышленное название автомобиля, контаминирующее фр. amical – дружеский и англ. „car“ – машина <���…> Французская автомобильная фирма с этим названием существовала с 1921 по 1940 г.» [1307]. В действительности «Amilcar» – это и название легендарной французской автомобильной компании и самих моделей выпускавшихся ею автомобилей. Образовано оно не от соединения слов «amical» и «car» (хотя второе слово, безусловно, учитывалось в ее названии), а представляет собой частичную анаграмму совмещенных имен двух основателей этой фирмы, Emile Akar и Joseph Lamy. Но для чего потребовалось Набокову вводить в финал свой книги именно это название? «Амилькар» стал печально известен во всем мире после того, как 14 сентября 1927 года в Ницце длинная шаль Айседоры Дункан попала в ось заднего колеса открытой спортивной модели «Amilcar CGSS» [1308], вследствие чего она была задушена, как только автомобиль тронулся [1309]. Причем, как и безымянная дама в романе Набокова, Дункан отъезжала от гостиницы. Таким образом Набоков в одном предложении совмещает два источника: литературный (прозрачный намек на чеховскую «Даму с собачкой», что напоминает о неверности героини «Сквозняка») и исторический, этот неожиданный «сквозняк из прошлого» – случайную смерть Дункан от удушения, напоминающую о том, что герой романа во сне задушил свою жену.
Еще одна заметная особенность поздней набоковской прозы, нередкая и в его более ранних вещах, – так называемый «фразеологический тмезис» (P. Lubin), то есть использование чуждых понятий или конструкций среди привычных, повторяемых или ожидаемых читателем сочетаний слов, к примеру в «Лолите»: «Меня также интересовало, не отдал ли бы охотник, зачарованный или нормальный, место в церкви за пса <���…>» (читатель привык к иному смыслу и порядку слов, по неоднократно звучавшему названию отеля «Привал Зачарованных Охотников»); в «Арлекинах»: «Большую часть года мы проведем в Париже. Париж становился центром эмигрантской культуры и нищеты» (последнее слово иронично опрокидывает ожидаемое клише «Париж – центр культуры»). Очевидно, что в случае поздней прозы Набокова мы имеем дело с бо́льшим числом приемов повествования при общей меньшей его продолжительности, и метод перевода последних вещей Набокова не может быть аналогичен работе над его более ранними английскими романами, перевод не может выполняться в той обстоятельной риторической манере, которая отличает его русские книги 1930-х годов. Произошла известная эволюция стиля, и сам Набоков, вероятно, не стал бы переводить «Арлекинов» или «Сквозняк из прошлого» языком «Отчаяния» или «Камеры обскура».
Его собственный русский перевод «Лолиты», законченный в 1965 году, тому подтверждение. Исследователи не обращали до сих пор должного внимания на то, каким слогом Набоков перевел этот роман. Русский ли это язык «Дара» или «Приглашения на казнь»? Вовсе нет. Стремясь передать все разнообразие повествовательных элементов оригинала, Набоков в русской «Лолите» создает единственный в своем роде образец прозы, построенной на эклектичном обращении к самым разным историческим пластам русской словесности, от высокого классического стиля, поэтичного и романтичного языка начала века, до советизмов и вульгаризмов, от давно усвоенных русской литературой галлицизмов до прямых заимствований из американской речи, оправданных, надо заметить, положением Гумберта-эмигранта в новой американской среде: брекфаст, рефриджератор, молочный бар, коковый напиток, пушбол, сингли и т. п. Здесь же встречаются слова вроде «лядвии», «сударь», «вчуже», «ледащий», «чресла», но есть и «плавки», «пылесос», «свинюги», «самолет» (не аэроплан), «кино» (не кинематограф), «втюриться», «пойти жрать», «танцульки» и т. п. Этой шипучей смесью старого набоковского слога 1930-х годов и модернизированной и основательно испорченной русской речи, перемежаемой нарочитыми американизмами, отчасти объясняется тот совершенно неотразимый эффект, какой русская «Лолита» произвела на советского читателя, – и тот прохладный прием, какой она имела у старых эмигрантов. Сам Набоков отметил в постскриптуме к русскому изданию романа, что «в неуклюжести предлагаемого перевода повинен не только отвыкнувший от родной речи переводчик, но и дух языка, на который перевод делается» [1310].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: