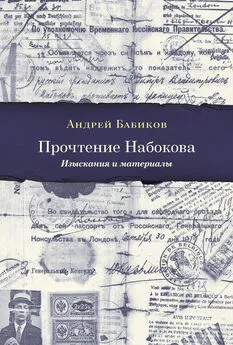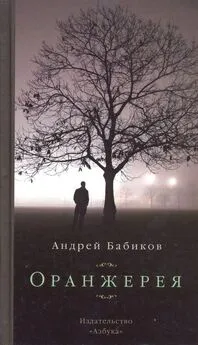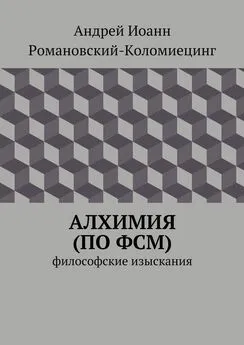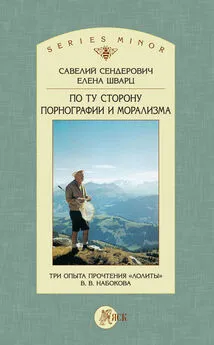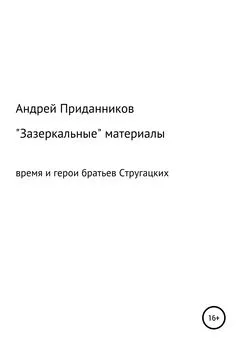Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Название:Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иван Лимбах Литагент
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-350-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы краткое содержание
Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты». Исходя из целостного взгляда на феномен двуязычного писателя, не упрощая и не разделяя его искусство на «русский» и «американский» периоды, автор книги находит множество убедительных доказательств тому, что науку о Набокове ждет немало открытий и новых прочтений.
Помимо ряда архивных сочинений, напечатанных до сих пор лишь однажды в периодических изданиях, в книгу включено несколько впервые публикуемых рукописей Набокова – лекций, докладов, заметок, стихотворений и писем.
Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Русский перевод «Лолиты» помогает определить, кроме прочего, общие принципы набоковской передачи «говорящих» имен. В тех случаях, когда по-гоголевски бесхитростно имя персонажа связано с должностью или характером, Набоков создает в русском переводе соответствующий эквивалент; так, например, служащий гостиницы мистер Potts стал в переводе Ваткинсом, Кроваткинсом и Койкинсом (игра со словом «cots» – койки, которая продолжается в слове «покойка», обыгрывающем «покойницу» – Шарлотту); доктор Бойд, о котором Гумберт замечает: «Boyd quite a boy», – в переводе стал «пастором Паром» и о нем сказано: «Пар – парень на ять». Парономазия в русском переводе усложняется: Boyd – boy – Пар – пастор – парень; причем выражение «на ять», получившее широкое распространение, согласно Виноградову, уже в советское время в просторечном значении «превосходно» [1318], точно соответствует американскому просторечию «quite a boy», которое можно было бы перевести нейтрально: «парень что надо» (но Набоков ради передачи игры слов в оригинальном тексте романа избрал более изощренный вариант). Встречаются в переводе и семантические кальки имен, например «miss Beard» стала «мисс Борода», то есть Набоков в этом случае попросту русифицировал английское имя ради сохранения комического эффекта [1319].
В поздней набоковской прозе, однако, очень редко встречается говорящее имя или название, которому можно было бы подобрать остроумную русскую копию. Набоков наполняет их двойным, иногда тройным значением. Так, в последнем романе героиню зовут Флорой, ее русский любовник-писатель в своем романе переделывает ее в Лауру ( англ. Laura произносится как Лора), а в другом месте рукописи она возникает под несуществующим именем Флаура, что намекает, конечно, на англ. flower – цветок и снова возвращает нас к ее аллегорическому образу, навеянному картиной Боттичелли «Примавера», с ее богиней цветов Флорой. Начало сложной игры с именами у Набокова можно найти и в его русских романах и затем в первых американских, но постепенно она приобретает все более и более тотальный характер. Например, в «Аде», где двоюродные братья названы одинаково – Уолтер Д. Вин, но у одного инициал «Д» означает «Демьян» и «Демон» и в обществе его прозвали Ворон Вин, «или просто Черный (Dark) Уолтер», а у другого – «Данила» и его «звали Дурак Уолтер, или, коротко, Рыжий (Red) Вин». И «Демон» и «Дементий» вызывают в романе ряд литературно-исторических ассоциаций, как и, в свою очередь, «Дурак» и «Рыжий», подразумевающие клоуна, – вспомним мотив цирка в романе, цирковые выступления Вана Вина, вспомним «слова-акробаты», о которых говорит Ада. В «Арлекинах» игра с именами еще более усложняется, Набоков создает двуязычные лигатуры, с трудом поддающиеся дешифровке. Например, писатель Соколовский, прозванный Иеремией, указывает на Мережковского и в то же время, как заметил Омри Ронен, на Фолкнера ( англ. falcon – сокол), «Иеремия» – название стихотворения Мережковского – соотносится с романом Фолкнера «Сойди, Моисей», наконец, в имени пророка в обратном порядке читается: «мере» – начало имени Мережковского. Другой пример: «Ян Буниан» указывает на классика английской литературы Джона Буньяна (или Беньяна, Баньяна) и вместе с тем на Ивана Бунина: Яном называла его жена, Джон соответствует русскому Ивану; но, помимо этого, в имени содержится намек на американского критика Эдмунда Уилсона, которого друзья называли закрепившимся за ним домашним прозвищем Bunny. Соответствующий контекст, в котором появляется этот гибрид – Ян Буниан, указывает на усиленные и безуспешные занятия Банни Уилсона русским языком. Очевидно, что такие сложные конструкции имен, которые «говорят» сразу на двух языках, перевести по образцу «пастора Пара» из русской «Лолиты» невозможно.
К отделу трудных или темных мест в поздней прозе Набокова примыкает особая группа набоковизмов, чаще всего с полисемантическим каламбурным или научным содержанием. Как убедительно показала Ольга Воронина, Набоков знал и умело использовал шекспиризмы в своих сочинениях, предполагая тем самым соответствующее отношение исследователей к его собственным произведениям [1320]. К примеру в «Арлекинах» имя неусыпного греческого великана Аргуса и имя Bella (краткая форма от Isabella, так зовут дочь героя) соединяются в названии несуществующей марки автомобиля «Bellargus» – точнее, два этих значения заимствуются Набоковым из названия ярко-голубой бабочки Lysandra bellargus. В том же романе странное имя Omarus K. представляет собой очевидную игру с шутливо латинизированным русским « комарусом » (ср. в «Аде» игру с «москитом» и «московитом») и заимствованным из французского языка «омаром», но таит и значения нешуточные, тематически связанные между собой в романе: английское «amorous» (любовный, влюбленный) и латинское «amarus» (горький). Будущий двуязычный «Словарь языка Набокова», как «Словарь языка Пушкина» или Шекспира, разрешил бы многие затруднения, но пока его нет, переводчику остается выписывать или помечать такого рода слова и выражения в собственный глоссарий и обмениваться своими толкованиями с другими переводчиками и знатоками Набокова.
В предисловии к своему переводу «Бледного огня» Вера Набокова заметила, что «в набоковских текстах каждая фраза наполнена до краев содержанием и не заключает в себе ни единого лишнего слова» [1321]. Справедливое само по себе, в отношении поздних вещей Набокова это замечание приобретает особый смысл. В последних романах, как уже было показано на примере имен, содержание зачастую дважды заполняет одну и ту же полость текста. К примеру выражение «by some mnemoptical trick» во второй главе «Сквозняка из прошлого» (переведенное Долининым и Мейлахом так: «по странной мнемонической аберрации») содержит неологизм (проигнорированный этими переводчиками), построенный на соединении двух слов: «mnemonic» (мнемонический) и «optical» (оптический). Нет у Набокова ни слова «странной», ни «аберрации», а сказано следующее: «Уродливое строение из серого камня и бурого дерева щеголяло вишнево-красными ставнями (не все были закрыты), которые в силу некоего мнемоптического подвоха он запомнил яблочно-зелеными». Именно память и оптика наблюдателя служат в романе двумя связанными ключевыми мотивами, на что и указывает этот (в сущности не противоречащий физиологии и механизму запоминания) семантический гибрид.
Аллюзия, кроме того, может указывать сразу на два литературных источника – английский и русский. Как показал Пекка Тамми, у Набокова нередко обнаруживается «подтекст в подтексте» [1322]. В Песни Третьей «Бледного огня» Шейд упоминает сборник своих эссе «The Untamed Seahorse» («Неукрощенный Морской Конь»). Кинбот в своих беллетризованных примечаниях к поэме по поводу этого названия замечает: «См. „Моя последняя герцогиня“ Браунинга. См. и осуждай модную манеру озаглавливать сборник очерков или том стихов – или, увы, поэму – фразой, позаимствованной из старого более или менее знаменитого поэтического произведения» [1323]. Следуя его указанию, справляемся со стихотворением Роберта Браунинга, которое завершается строками:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: