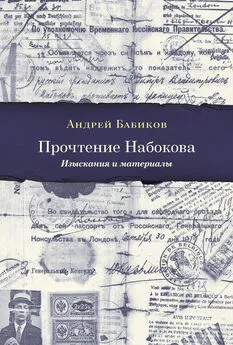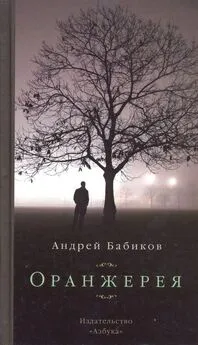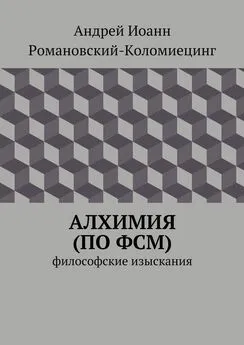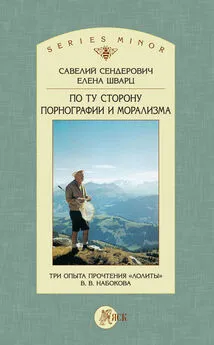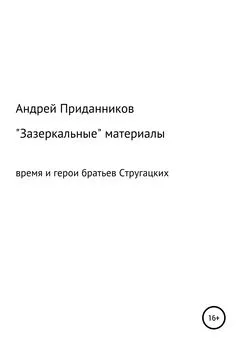Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Название:Прочтение Набокова. Изыскания и материалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иван Лимбах Литагент
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-350-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Бабиков - Прочтение Набокова. Изыскания и материалы краткое содержание
Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты». Исходя из целостного взгляда на феномен двуязычного писателя, не упрощая и не разделяя его искусство на «русский» и «американский» периоды, автор книги находит множество убедительных доказательств тому, что науку о Набокове ждет немало открытий и новых прочтений.
Помимо ряда архивных сочинений, напечатанных до сих пор лишь однажды в периодических изданиях, в книгу включено несколько впервые публикуемых рукописей Набокова – лекций, докладов, заметок, стихотворений и писем.
Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не обращая внимания на «карамазовский» подтекст в речах Барбошина, Трощейкин не задумывается и над следующей его загадочной репликой: «Пойду, значит, ходить под вашими окнами, пока над вами будут витать Амур, Морфей и маленький Бром» (413). Кто этот «маленький Бром», названный наряду с римским божеством любви и греческим божеством сновидений? Быть может, Барбошин здесь невольно и смутно выдает что-то важное, и эта мифологическая тройка объединяет семью Трощейкиных в том составе, который соответствует идеальному (как в более поздней модели отношений поэта Джона Шейда с его женой, также потерявших единственного ребенка, но не любовь к друг другу и к нему и продолжающих сознавать его призрачное присутствие в своей жизни) внутреннему действию пьесы? Во-первых, Любовь ( лат. amor – любовь), во-вторых, Трощейкина (Морфея-снотворца и сновидца: «Это, вероятно, мне все снится… Эта комната, эта дикая ночь, эта фурия» – 404) и, в-третьих, их маленького умершего сына: Бром – усечение от Бромий, одного из прозвищ Диониса, означающего «шумный». «Маленький шумный» намекает на мальчика, разбившего мячом зеркало («Страшный звон. Вбегает Трощейкин. <���…> Гнусный мальчишка разбил мячом зеркало !»), и через него – на умершего сына Трощейкиных. Связью служит ключевая реплика Любови в конце второго действия: «Наш маленький сын сегодня разбил мячом зеркало» (399).
В зачине пьесы Трощейкин, выйдя на авансцену, рассказывает жене о картине, которую он задумал ночью во время бессонницы:
Написать такую штуку , – вот представь себе… Этой стены как бы нет, а темный провал… и как бы, значит, публика в туманном театре, ряды, ряды… сидят и смотрят на меня. Причем все это лица людей, которых я знаю или прежде знал и которые теперь смотрят на мою жизнь. <���…> Тут и мои покойные родители, и старые враги, и твой этот тип с револьвером… (361) [193].
И сразу отказывается от своей идеи: «А может быть – вздор. Так, мелькнуло в полубреду… Пускай опять будет стена». Стена, выражающая главный принцип театральной условности, проясняет замысел «События» в отношении оппозиции внутреннего и внешнего конфликтов.
В «немой сцене» пьесы замысел Трощейкина воплощается зеркально: гости застывают под чтение Опаяшиной, Трощейкин и Любовь выходят на авансцену и от собравшихся их отделяет средний занавес, на котором, как указано в ремарке, вся группа гостей должна быть «нарисована с точным повторением поз» (398). Затем Трощейкин говорит: «Наконец, я сам это намалевал, скверная картина – но безвредная» (399). Разница между замыслом и воплощением весьма существенна: по замыслу должны быть изображены знакомые ему люди – покойные родители, любовницы, Барбашин («тип с револьвером»), – сидящие в подобии зрительного зала, воплотилась же картина условных лиц, фигур, сидящих напротив зала, лиц, не выражающих ни досады, ни зависти, ни сожаления, – чувства, которые Трощейкину хотелось изобразить, – это только бесчувственные «маски» в «полусонных позах». Сопоставление замысла и воплощения наводит на мысль о том, что картина, задуманная Трощейкиным накануне события, – это замысел некой другой пьесы , с другими характерами, может быть, более глубокими, с другими отношениями, может быть, подлинными [194]. Автор Трощейкин, таким образом, противопоставлен автору Ф. Годунову-Чердынцеву, «штука» которого конгениальна «Дару».
Литераторша Опаяшина предлагает свое видение развития действия («ведь из всего этого могла бы выйти преизрядная пьеса») в пошлейшем драматическом русле («Может быть, он сам покончит с собой у твоих ног», 381). Любовь примеряет роль пушкинской Татьяны пополам с Анной Карениной («Я ему с няней пошлю французскую записку, я к нему побегу, я брошу мужа… <���…> Набросок третьего действия», 410), но все эти травестийные варианты возникают под соответствующей оболочкой «второстепенной комедии», разыгранной Трощейкиным.
Такое понимание роли Трощейкина, творческому моменту которого подчиняются все прочие персонажи, согласуется с евреиновской концепцией субъекта действия. Евреинов указывал, что в монодраме «возможен только один действующий в собственном смысле этого слова, мыслим только один субъект действия». Окружающие его люди предстают перед зрителем преломленными в призме его сознания:
<���…> остальных участников драмы зритель монодрамы воспринимает лишь в рефлексии их субъектом действия и, следовательно, переживания их, не имеющие самостоятельного значения, представляются сценически важными лишь постольку, поскольку проецируется в них воспринимающее «я» субъекта действия. На этом основании мы не можем в монодраме признавать за остальными участниками драмы значения действующих лиц в собственном смысле этого слова и по справедливости должны их отнести к объектам действия, понимая слово «действие» в смысле восприятия их, отношения к ним истинно действующего. <���…> Они будут незаметны, [будут] сливаться с фоном или даже поглощаться им, если в тот или другой момент они безразличны для действующего [195].
Главная мысль Евреинова, что в монодраме характер являемой на сцене жизни изображается не с объективной точки зрения, «а с точки зрения героя пьесы или отдельных ее персонажей» [196], применима и к «Изобретению Вальса», где Вальс также является единственным субъектом действия [197].
Не выдержав упоминания о сыне (чья смерть напоминает ему о собственной смертности и о страшном Барбашине), когда Любовь говорит: «Наш маленький сын сегодня разбил мячом зеркало», Трощейкин «опускается» и, «сливаясь с жизнью», возвращается в состав застывших за его спиной персонажей второстепенной комедии. Настоящая опасность, о которой говорит Любовь («Опасность? Но какая? О, если б ты мог понять!» и в начале третьего действия: «Нет, я не об этой опасности собираюсь говорить, – а вообще о нашей жизни с тобой», 403) и которой не видит Трощейкин, это опасность навсегда остаться действующим лицом «второстепенной комедии», играя роль жалкого труса с претензией на оригинальное творчество. Ответом на подлинность чувств Трощейкина со стороны Любови явилось то, что она назвала умершего ребенка «нашим» («Наш маленький сын…»), а с возвращением Трощейкина в обстановку комедии она говорит о нем «мой» («Когда мой ребенок умер…»).
В задуманной картине должна была изображаться мастерская самого Трощейкина, одна из стен которой, а именно «стена», отделяющая зрительный зал от сцены, «реальная» для действующих лиц и мнимая для зрителей, исчезает – и мастерская, таким образом, превращается в сцену, на жизнь которой смотрят все те близкие ему и знакомые лица, которыми он пожелал заполнить ряды. В момент прозрения Трощейкин видит себя на «узкой освещенной сцене», ограниченной сзади «масками второстепенной комедии», а спереди – «темной глубиной», в которой «глаза, глаза, глаза, глядящие на нас, ждущие нашей гибели» (398) [198].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: