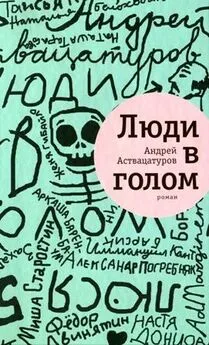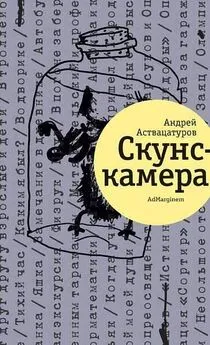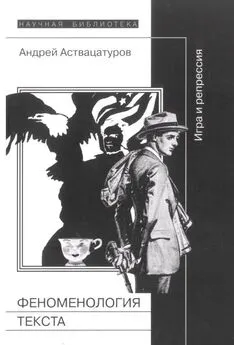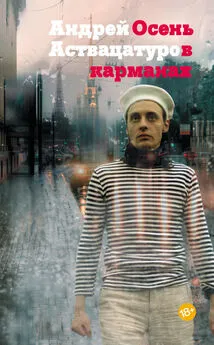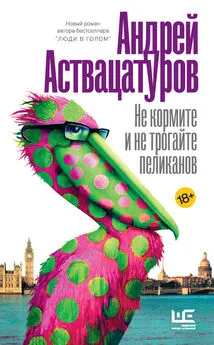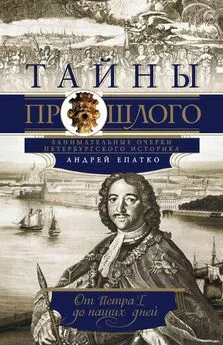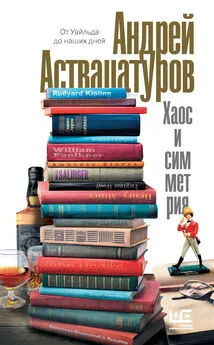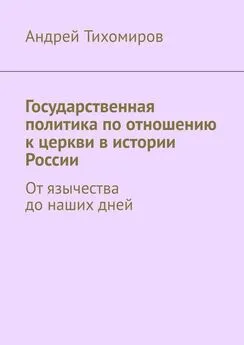Андрей Аствацатуров - Хаос и симметрия [От Уайльда до наших дней] [litres]
- Название:Хаос и симметрия [От Уайльда до наших дней] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-120081-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Аствацатуров - Хаос и симметрия [От Уайльда до наших дней] [litres] краткое содержание
Хаос и симметрия [От Уайльда до наших дней] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мир тотчас же дает трещину. Эстетическая ткань вымысла рвется, обнаруживая реальность – кролика, который выглядит непередаваемо жутким. Таким жутким, что охвативший ребенка ужас не может облечься в слова – он вырывается из его души нечленораздельным воплем. Здесь Бирс еще склонен повалять дурака, поиронизировать над своим незадачливым героем, вполне по-романтически пережившим разрыв мечты и реальности. Но это лишь пролог к тому, что произойдет потом. А потом и рассказчику, и читателю, и герою уже будет не до смеха.
В лесу мальчик видит еще одно ужасное зрелище – раненых конфедератов, которые ползут в сторону ручья. Тут нетрудно заметить иронический параллелизм. Солдаты уже пережили то, что предстоит пережить герою. Они отважно форсировали ручей, воинственно наступали, видимо, окунулись в кошмар жуткой бойни, увидели смерть и теперь, изуродованные, покалеченные, ползут восвояси. Их путь вполне закономерен. Судьба привела их к порогу смерти. То же самое произойдет и с ребенком – его душа будет навеки искалечена созерцанием смерти. Но пока еще, с любопытством разглядывая ползущих раненых и видя в них не то зверей, не то птиц, он об этом не догадывается. Эстетическое берет верх над страхом. Инстинкт вымысла настолько устойчив, что он с легкостью осваивает реальность и примиряет героя с ней. Реальность вновь предстает радужным сном, точнее, занятной игрой: мальчик убежден, что с ним хотят поиграть в лошадки, и вскарабкивается на спину человека, у которого оторвало нижнюю челюсть. Но раненый его сбрасывает, и ребенка одолевает смутный страх, откликом которому становится жуткая тишина, воцарившаяся в лесу. Неизрекаемый ужас вновь пробуждается, постепенно захватывая сознание ребенка, препятствуя воображению и творчеству.
Однако вымысел опять восстанавливается в своих правах, и художественная иллюзия побеждает страх: мальчик, вообразив себя полководцем, сжав в руке деревянный меч, встает во главе отступающего войска. То же самое происходит, когда его глазам открывается жуткое зрелище горящей усадьбы. Он начинает радостно бегать вокруг пожара и притоптывать в такт танцующим языкам пламени. И все же судьбе угодно свершиться и открыть герою реальность, кошмар смерти. В горящей усадьбе он узнает собственный дом, а перед ним видит обезображенный труп женщины.
There, conspicuous in the light of the conflagration, lay the dead body of a woman – the white face turned upward, the hands thrown out and clutched full of grass, the clothing deranged, the long dark hair in tangles and full of clotted blood. The greater part of the forehead was torn away, and from the jagged hole the brain protruded, overflowing the temple, a frothy mass of gray, crowned with clusters of crimson bubbles – the work of a shell .
По другую сторону дома, озаряемое пламенем пожара, лежало тело мертвой женщины. Бледное лицо было запрокинуто кверху, в пальцах разметавшихся рук зажата вырванная с корнем трава, платье разорвано, в спутанных черных волосах запеклись сгустки крови. Большая часть лба была снесена, из рваной раны над виском вывалились мозги – пенистая серая масса, покрытая гроздьями темно-красных пузырьков. Это была работа снаряда!
Покров эстетического окончательно спадает. Подлинное переживание страха непередаваемо. Оно противится разуму и сопротивляется всякому облачению в слово, которое разуму подчинено.
Ребенок задвигал руками, делая отчаянные, беспомощные жесты. Из горла его один за другим вырвались бессвязные, непередаваемые звуки, нечто среднее между лопотаньем обезьяны и кулдыканьем индюка, – жуткие, нечеловеческие, дикие звуки, язык самого дьявола. Ребенок был глухонемой.
Единственной точной реакцией на ужас реального может быть только нечленораздельное индюшачье кулдыканье, абсурдная, древняя допонятийная речь. И здесь Бирс опережает свое время, преодолевает границы эстетического, подводя художественное высказывание к собственному отрицанию и к фигуре молчания.
Убить Орфея
О повести Генри Джеймса “Письма Асперна”
Немного о филологах и филологии
Я не смог оставить без внимания эту повесть по очень личной причине: главный ее герой – филолог, как и я. И сам ее сюжет, авантюрный, почти детективный, разворачивается вокруг чисто филологической затеи – раздобыть и опубликовать с комментариями письма некоего вымышленного американского классика. Герой-филолог, если он в самом деле хочет стать настоящим филологом, должен хотя бы раз в жизни сделать нечто подобное. Должен докопаться до непреложных фактов, ведь только факты могут нам объяснить, почему такое-то произведение написано так, а не эдак.
Филологи любят литературу. Филологи бескорыстно служат литературе. Так, по крайней мере, дела обстояли сто лет назад, в золотой век филологии, еще до наступления эпохи грантов, как раз в то самое время, когда разворачиваются события повести Генри Джеймса. Впрочем, я нисколько не хочу превращать этот текст в нудное резонерство с гнусными намеками и вполне готов допустить, что можно искренне любить литературу, искренне служить ей и одновременно получать за это соответствующее вознаграждение. И не тратить на свои открытия заработанные деньги, как это постоянно приходилось делать герою Джеймса.
За сто с лишним лет государство научилось щедро благодарить филологов. А вот литература почему-то не научилась. И бескорыстная филологическая страсть по сей день так и осталась неразделенной. Писатели с удовольствием пишут о ком угодно, даже об отъявленных проходимцах и полнейших ничтожествах. Но о филологах – крайне редко, да и то с большой неохотой. Произведения, в которых филолог оказывается главным героем, а филологические разыскания – сюжетной коллизией, можно пересчитать по пальцам. Какая-то чудовищная, черная неблагодарность!
И главное – за что? Может быть, жизнь филолога, покрытого книжной пылью, скучна и недостойна внимания литературы, ищущей сюжетной замысловатости? Не думаю. Сам по себе филолог, возможно, неинтересен. Но зато в поисках места или в архивных разысканиях он, уж мне-то поверьте, проявляет столько проворства, что ему позавидует иной искатель приключений. Все заранее разузнать, расставить, где надо, силки интриг, оттеснить конкурентов, подольститься к влиятельному администратору, облапошить какого-нибудь простодушного старого маразматика. Да здесь сюжетов наверняка хватит на целую авантюрную трилогию. Ну, на повесть уж точно. И “Письма Асперна” – живое тому подтверждение. Тогда почему же писатели, как будто сговорившись, игнорируют филологов и не сочиняют о них романы? Почему литература прибегает здесь к фигуре умолчания?
Литература замолкает там, где видит угрозу собственному существованию. Значит, филология чем-то угрожает литературе? Возможно, даже отменяет ее и чудовищно дискредитирует. В “Письмах Асперна” Генри Джеймс пытается во всем этом разобраться. И за филологическим инстинктом он угадывает странное свойство человеческого ума – считать свое ви́дение мира объективным и единственно возможным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Андрей Аствацатуров - Хаос и симметрия [От Уайльда до наших дней] [litres]](/books/1073941/andrej-astvacaturov-haos-i-simmetriya-ot-uajlda-d.webp)