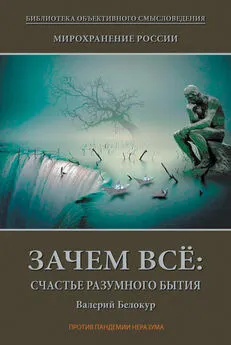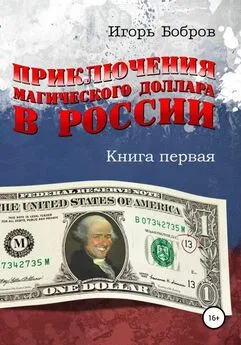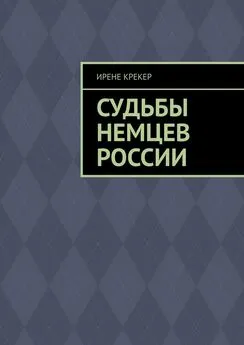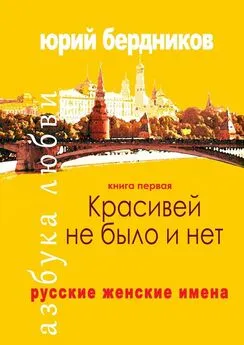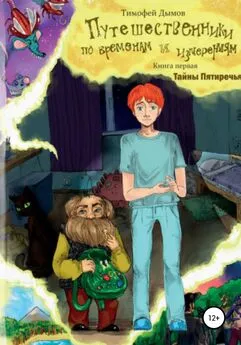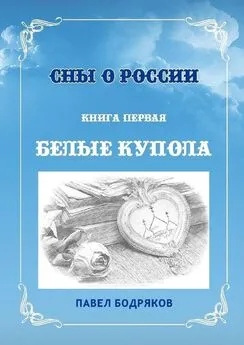Юрий Безелянский - Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая
- Название:Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИПО «У Никитских ворот» Литагент
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00095-394-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Безелянский - Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая краткое содержание
Вместе с тем книга представляет собой некую смесь справочника имен, антологии замечательных стихов, собрания интересных фрагментов из писем, воспоминаний и мемуаров русских беженцев. Параллельно эхом идут события, происходящие в Советском Союзе, что создает определенную историческую атмосферу двух миров.
Книга предназначена для тех, кто хочет полнее и глубже узнать историю России и русских за рубежом и, конечно, литературы русского зарубежья.
Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Октябрьскую революцию Ремизов воспринял как трагический слом тысячелетней российской государственности и культуры («Слово о погибели Русской земли»). На короткое время он сближается с эсерами, но и они вызывают у него горькое разочарование: «До чего же все эти партии зверски: у каждой только своя правда, а в других партиях никакой, везде ложь. И сколько партий, столько и правд, и сколько правд, столько и лжей».
Как прозорливый художник Ремизов еще в 1907 году в сказании «Никола угодник» определил картину хаоса, который возникнет в результате революции: «Не узнал Никола свою Русскую землю. Вырублена, выжжена, развоёвана, стоит пуста-пустехонька, и лишь ветры веют по глухим степям, не найти в них правды…»
Навел Никола кой-какой порядок, вернулся в рай и поведал святым: «Всё со своими мучился, пропащий народ: вор на воре, разбойник на разбойнике, грабят, жгут, убивают, брат на брата, отец на сына, дочь на мать! Да и все хороши, друг дружку поедом едят, обнаглел русский народ». Вот такой виделась Ремизову родная земля в революционных потрясениях.
Писатель эмигрировал в августе 1921 года, сначала жил в Берлине, затем с 5 ноября 1923 года и до самой смерти в Париже. Отъезд из России воспринимал трагически, как вечную разлуку с любимой землей. Оценку революционной эпохе дал в эпопее «Взвихренная Русь» (1927), которая, по мнению Андрея Белого, является одной из лучших художественных хроник России смутного времени. В дальнейшем Ремизов не допускал лобовых антисоветских инвектив и за свою лояльность получил в 1946 году советский паспорт, но тем не менее не рискнул вернуться на родину.
В эмиграции Ремизов много работал, занимался мифами и легендами, экспериментировал со словом, писал автобиографическую прозу и продолжал делать то, что еще на ранней стадии подметил Максимилиан Волошин: «Ремизов ничего не придумывает. Его сказочный талант в том, что он подслушивает молчаливую жизнь вещей и явлений и разоблачает внутреннюю сущность, древний сон каждой вещи».
Всё это так, но правда и то, что с 1931 по 1949 год Ремизов не смог опубликовать ни одной новой книги. Он их «издавал» сам, в единственном экземпляре, переписанном от руки красивым каллиграфическим почерком, и таких тетрадей было 430 штук.
В 1943 году умирает жена Ремизова, с которой он прожил 40 лет (они поженились в 1903 году). Ее облик Ремизов восстановил в книге «В розовом блеске» (1952). И в этом плане Ремизов был непохож на всех остальных серебристов. У Блока, Бальмонта, Маяковского, Есенина, Пастернака и других поэтов и писателей того времени было много любимых женщин, жен, любовниц и муз, а вот у Ремизова была одна-единственная. Любимая и неповторимая для него.
Так кто она? Серафима Довгелло из старинного литовского рода, владеющего в Черниговской губернии даже замком. Когда Серафима Павловна вышла замуж за Алексея Михайловича и привезла его в родовой замок, вся семья сразу шарахнулась от такого зятя. Маленький, почти горбатый, ни на кого не похож, университета не окончил, состояния никакого, пишет сказки. И при том из купцов. «Где она такого выкопала?..» – удивлялась вместе с родственниками и Ариадна Тыркова-Вильямс.
С ней было уютно и вкусно пить чай – приходившие в гости писатели смеялись: «какая сдобная булка». И вот «булки» не стало – без обожаемой Серафимы Павловны Ремизов прожил 14 лет. Жил аскетично, по принципу «немного еды и тепло в квартире».
Послевоенный мир Ремизов определил двумя фразами: «Какое последнее слово нашей культуры? – синема и гестапо. В чем наша бедность? – довольны мелочами».
Заботой самого Ремизова по-прежнему оставался русский язык. «Живой сокровищницей русской души и речи» назвала творчество писателя Марина Цветаева. «А слово люблю, пер-возвук слова и сочетание звуков», – признавался сам Ремизов. «И безумную выпукль и вздор, сказанное на свой глаз и голос». Ремизов постоянно копался в кладовых слова, в словарях, много читал, выписывал. Это было настоящей страстью коллекционера. Марина Цветаева восхищалась Ремизовым, а вот для Бунина все усилия Ремизова «отмыть икону», найти исконный русский язык в «дебрях этимологической ночи» были смехотворны. Иван Алексеевич считал и нынешнее состояние русского языка превосходным, без всякой древней зауми.
Одна из последних книг Ремизова «Огонь вещей» – оригинальное исследование темы снов в творчестве русских писателей: Гоголя, Пушкина, Достоевского, Тургенева и других.
Вечный сон настиг Ремизова в преклонном возрасте (ему было 80 лет), когда он был уже беспомощным и почти слепым, в его квартире на улице Буало, 7 (ныне весьма престижный 16-й район Парижа), 26 ноября 1957 года.
«…Я не знаю своего последнего дня, но что последние дни – я знаю, – приводит строки из дневника писателя Андрей Седых. – От слабости не смотрю на свет. Только чтение выводит меня в жизнь. Не поднимаясь, писал, вспоминал наш прощальный вечер. Весь день так легко выговаривались слова – пишу в воздухе, и вдруг понял, не будет восстановлено – не возможно».
“Ну запишите, Гоголь, сегодня весна, мне письмо…”
На этой записи дневник оборвался…» (А. Седых. Далекие, близкие).
Что остается добавить? Ремизов – один из самобытнейших писателей Серебряного века и, пожалуй, всей русской литературы. Сам он учился у Гоголя, Достоевского, Лескова и Толстого, а у него училось последующее поколение писателей – Борис Пильняк, Евгений Замятин, Вячеслав Шишков, Михаил Пришвин, Леонид Леонов, Константин Федин, Алексей Толстой, Артем Веселый. Можно сказать, что все они вышли из ремизовского корня.
О своей творческой манере Ремизов писал: «…о “слове” не думал. Только б закипело, слова придут. И они приходили сами собой, лезли назойливо и неотступно или накатывались таким хлыном, от которого весь я содрогался и не мог понять, что это со мной…»
Незадолго до смерти сокрушался: «И с моим пропадом мое слово, моя музыка, весенний воздух, весенняя песня, – куда вы уйдете?..»
Не ушли. Через год после смерти Ремизова, в 1958-м, в Советском Союзе появились первые книги писателя. И перед глазами советских читателей предстали фразы «как медовые соты», и они ощутили излюбленную Ремизовым «путаницу времен».
А потом пришел черед и графике: в мае 2015 года в московском Манеже с успехом прошла выставка «Алексей Ремизов. Возвращение». Каллиграфические тексты, врезанные картинки к книгам. И надо вспомнить, что такие мастера живописи, как Пикассо, Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, считали Ремизова профессиональным рисовальщиком, хотя он и заявлял: «Картинки свои не ценю».
Главное, чтобы все мы ценили творческое наследие этого удивительного человека.
И совсем напоследок. Уже будучи в эмиграции, Ремизов писал на родину писателю Владимиру Лидину: «Передайте тем из писателей, кто поверит мне, – это я сам чувствовал всегда, а тут живя, на примере увидел германском: литература есть цвет России и всякая веточка – краса России и надо только радоваться всякому новому дарованию, сберегать и помогать, а не подсиживать и ругать, как это было у нас в обычае, писатель к писателю хуже волков, совсем забывают, что грызня – не украшение России, а обцарапывание, забывают Россию».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: