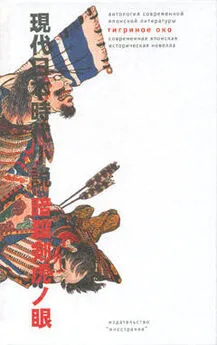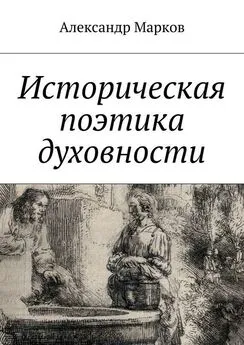Елеазар Мелетинский - Историческая поэтика новеллы
- Название:Историческая поэтика новеллы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елеазар Мелетинский - Историческая поэтика новеллы краткое содержание
Историческая поэтика новеллы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В классических образцах жанра новеллы в результате интериоризации действие тесно увязано со свойствами персонажей. Интериоризация в соединении с анекдотическим поворотом действия ведет к драматизации, и не случайно многие итальянские новеллы дали сюжеты для драматургии, в том числе шекспировской. Однако использование действия просто для иллюстрации характеров есть известное отступление от классической формы новеллы и ведет к ослаблению специфики, жанра. Тем не менее на этом пути новелла впоследствии многого достигла. Кроме того, перенос действия вовнутрь или создание двойного действия (внешнего-внутреннего, реального-фантастического и т. д.), начиная с романтиков, по-своему обогащает новеллу, хотя и отклоняет ее от классических образцов. Границы жанра новеллы сильно сдвигаются и все же сохраняются, когда акцент переносится на скрытые, малозаметные душевные движения персонажей («подтекст» Чехова), или когда действие становится абсурдным (Кафка, Борхес), или когда сюжет трактуется как повторение, как притчевая парадигма (Хоторн, те же Кафка и Борхес), и т. д.
В конечном счете новелла имеет фольклорное происхождение, как и словесное искусство в целом, но в ходе истории новеллы, на протяжении по крайней мере всего древнего и средневекового периода, происходило тесное и глубокое взаимодействие устной и книжной традиции. На пути дефольклоризации ранней новеллы существенны были попытки более или менее широкого синтеза жанров «низких» и «высоких», применения стихотворной формы (в фаблио, ранних шванках, у Чосера) и риторических приемов (у Чосера, у Боккаччо) для повышения места в жанровой иерархии, а также формирования сборников, часто с обрамлением в виде «книг». В переходе от фольклора к литературе существенную роль сыграли сборники «примеров» к проповедям Жака де Витри и др. «Примеры» такого рода используют и фольклор, и разнообразные книжные источники, и представляют собой «книги», но «книги», предназначенные для иллюстрации устных проповедей.
Фольклорная предновелла состоит из двух групп коротких повествований — собственно новеллистической сказки и анекдотов (анекдотических сказок). Обе группы, с одной стороны, взаимодействуют между собой, а с другой — находятся в отношении дополнительной дистрибуции как две подсистемы, входящие в единую систему. Так, альтернативны хитрость-мудрость героя новеллистической сказки и хитрость-плутовство анекдотической; альтернативны новеллистические сказки о злых разбойниках и анекдотические о веселых ловких ворах, вызывающих восхищение; альтернативны новеллистические сказки о верных, добродетельных женах и анекдотические о неверных, строптивых, злых женах. Подобная система противопоставлений сложилась в фольклорной традиции; в книжной традиции она присутствует в размытом виде.
Собственно новеллистическая сказка, так же как и анекдотическая, является предшественницей и фольклорным эквивалентом новеллы. Новеллистическую сказку можно считать с известными оговорками плодом трансформации в определенном направлении структуры волшебной сказки. Волшебный элемент заменяется «бытовым» в плане реалий и умом героя или его счастливой судьбой функционально. Чудесные противники из персонажей типа змея, бабы-яги, лешего превращаются в лесных разбойников, просто в злых старух и т. п., а волшебный помощник, там, где он сохраняется, становится просто мудрым советником. Но большей частью не волшебный помощник, а смекалка помогает герою успешно пройти испытание, счастливая судьба ведет его к цели, и лишь изредка несчастливая — к гибели. Отказ от чудесных помощников способствует активизации героя, а это черта в принципе новеллистическая. Чудесная жена волшебной сказки превращается в чрезвычайно активную, энергичную героиню, которая, переодевшись в мужской наряд (вместо превращения), делает «карьеру» и выручает из беды своего мужа, за чем следует узнавание (идентификация). С помощью смекалки демократический герой выполняет трудные брачные задачи и женится на царевне. Ум, мудрость, догадливость, невинная хитрость, остроумие (часто в виде пословичной мудрости) прославляются и в сказках, не связанных с «престижным» браком и получением «полцарства» («мудрая дева», «мальчик», «царь Соломон», крестьянин в «Беспечальном монастыре» и т. п.). Ум героя в новеллистической сказке маркирован, а глупость его противников — нет, в отличие от анекдота.
Еще раз подчеркну, что ритуальной символической предопределенности и в этом смысле обязательности самого фантастического сюжета волшебной сказки резко противостоит исключительность сюжета новеллистической сказки вопреки всему его «бытовизму», особенно характерному для европейского фольклора. При этом обязательные в конечном счете ритуальные испытания превращаются в необычайные, удивительные перипетии. Вместе с отказом от волшебного элемента снимается ядерная оппозиция в волшебной сказке предварительного испытания (ради получения волшебной помощи) и основного испытания (ради ликвидации недостачи и повышения социального статуса). В этом главном испытании волшебные силы как бы действуют вместо относительно пассивного героя. Снятие этой ядерной оппозиции ведет к глубокой трансформации всей жанровой структуры сказки и к ее частичному распаду, к замене последовательных звеньев метасюжета волшебной сказки отдельными параллельными сюжетами, выросшими из этих, ставших теперь изолированными, синтагматических звеньев. В частности, таким отдельным сюжетом становится обязательное для волшебной сказки сватовство к царевне. Из прежней композиционной последовательности сохраняются исходная ситуация беды-недостачи и финальная идентификация (кто есть кто? кто герой? кто «вредитель»?), которая особенно характерна для сказок об испытании добродетели. Между этими «началом» и «концом» могут инкорпорироваться, во-первых, «трудные задачи» как динамизация «недостачи» и/или «добрые советы» — «дурные предсказания» — результат трансформации функции волшебного помощника, во-вторых, «неслыханные» превратности, в которые теперь превратились испытания.
Собственно испытаниями остаются испытания добродетели жены, реже — слуги.
Между новеллистической и анекдотической сказкой имеются промежуточные типы, например сказки о строптивых женах. К собственно анекдотическим примыкают так называемые сказки о глупом черте. Подчеркну еще раз, что анекдотическая сказка ничуть не дальше отстоит от книжной новеллы, чем то, что называют новеллистической, и иногда, еще менее удачно, бытовой или реалистической. (Сказка эта хоть и не фантастична, но весьма условна, и ни о каком ее реализме не может быть речи.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: