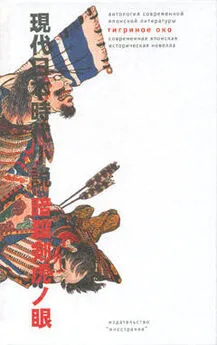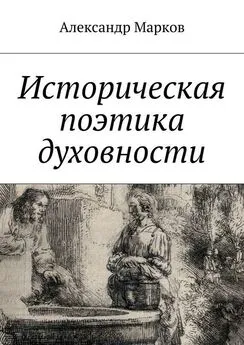Елеазар Мелетинский - Историческая поэтика новеллы
- Название:Историческая поэтика новеллы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елеазар Мелетинский - Историческая поэтика новеллы краткое содержание
Историческая поэтика новеллы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
При переходе от романтизма к реализму резко падает удельный вес фантастики и субъективно-лирической стихии, усиливается значение быта и социальных отношений, побеждает принцип «объективного» повествования «со стороны». Изображение странного и экзотического часто получает этнографическую или иную «научную» мотивировку. Удивительные происшествия могут возникать и вне экзотики из реальных и в том или ином смысле типических жизненных обстоятельств, которые их детерминируют. Драматизм реалистической новеллы иногда концентрируется в отдельных сценах, как в драме XIX в.
В постромантический период и даже во времена расцвета классического реализма структура новеллы меняется слабо и во многом сохраняет тот тип, который сложился в эпоху романтизма. Новелла долго сохраняла романтические элементы. Даже великие реалисты XIX в., такие, как Стендаль, Бальзак, Диккенс, Гоголь, Тургенев, Достоевский, кстати сохранившие следы романтизма (пусть в «снятом виде») даже в своих романах, писали новеллы, в которых наследие романтизма было особенно ощутимо. Это, в частности, проявилось в творчестве Тургенева, писавшего наряду с романами и натуральными очерками и полуфантастические новеллы, чему способствовал его поздний поворот к мистицизму. Новелла Стендаля и даже Бальзака в принципе мало отличается от новелл Мериме, типичной переходной фигуры от романтизма к реализму. Этот переходный этап хотя и не изменил структурные принципы романтической новеллы, но в значительной мере укрепил ее жанровую специфику за счет отказа от субъективно-лирической стихии и безудержной фантастики. Ведь диалектика исключительного-реального входит в самую специфику новеллы. Вспомним Клейста, одного из создателей романтической новеллы, которому удалось при этом сохранить трезвость и строгость немецкого классицизма, а с ней и четкую новеллистическую форму. Meриме, наоборот, не будучи связан с традицией классицизма, сумел своим ярким и сильным романтическим характерам дать реальную мотивировку в виде влияния этнически-экзотических нравов.
Наше литературоведение склонно полностью зачислять Пушкина-прозаика в «реализм», тогда как на самом деле в новеллах Пушкина есть и доромантическая строгость, идущая еще от XVIII в., и романтическая полупародийная игра с традиционными повествовательными сюжетами, и осмеяние романтических штампов, и элементы подлинного социального реализма, обнажающего литературность всех этих нарративных схем, и истинные социальные пружины «неслыханных происшествий». Стоит отметить, что Пушкин, как и Клейст, широко прибегает к анекдотическим мотивам, что всегда укрепляет новеллистичность. Почти то же можно сказать о Гоголе, несомненно шедшем от романтизма к реализму.
В период расцвета классического реализма привилегированным жанром становится роман, а новелла оттесняется на периферию как творчества великих реалистов, так и литературы вообще. Отчасти новеллу в этот период вытесняют рассказ и натуральный очерк.
Не случайно и в переходный период, и позднее новеллисты проявляют интерес ко всякой экзотической сфере, где могли в реальности сохраняться яркие характеры и ситуации. Наглядный пример — корсиканские и цыганские нравы у Мериме, как бы романтические и удивительные по самой своей сути (здесь «природа» конфронтирует с «культурой»). Известную экзотичность можно усмотреть и в новеллах Брет Гарта о калифорнийских золотоискателях. Брет Гарт, с одной стороны, любуется этой золотоискательской «вольницей», способной на бескорыстие и благородные поступки, но, с другой стороны, для него важнее даже в этой маргинальной среде обнаружить социальные и нравственные коллизии буржуазного общества. Впоследствии английские писатели (Стивенсон, Конрад, наконец Киплинг) пристрастились к колониальной экзотике, которую они уже рассматривают с неоромантических позиций.
Новелла в период реализма не случайно расцветает в своего рода областнических рамках, особенно в странах немецкого языка: в Австрии (Штифтер), в Шлезвиг-Гольштейне (Шторм), в Шварцвальде (Ауэрбах), в Швейцарии (Келлер, Мейер). Немецкие новеллисты постепенно преодолевают лирическо-элегическую стихию, оставшуюся им в наследство от романтизма, и переходят к социальному реализму, но часто ограничивают свою тематику семейными рамками и абстрактными нравственными проблемами. Излюбленная тема — разрушение идиллии, столкновение высоких чувств с дворянскими предрассудками или мещанской алчностью. Особняком стоит Мейер, решающий нравственные проблемы скорее на метафизическом уровне и на историческом материале.
Принципиально новый шаг в истории новеллы как жанра совершается на этапе позднего реализма, как раз тогда, когда реализм окончательно избавляется от романтических пережитков и останавливается на пороге натурализма, импрессионизма, неоромантизма. В конце XIX в. новелла теряет не только романтические, но и романические черты, резко отделяется от романа и повести, снова охотно используют анекдотические приемы, хотя на совершенно нетрадиционном материале, шире допускает сатиру (Мопассан, отчасти Чехов) и юмор (Чехов, О. Генри и др.).
Ярчайший пример — Мопассан, который, будучи полноценным и бескомпромиссным реалистом критического направления, поворачивает от романа к новелле. Мопассан демонстрирует, как «неслыханные происшествия» и удивительные случаи, составляющие ядро новеллы, вырастают из самой повседневной, банальной, но достаточно жестокой жизненной прозы, из массового мещанского быта (даже эпизоды периода немецкой оккупации при всей их экстремальности поданы им как сгустки той же атмосферы). Мопассан любит подчеркивать контраст между обыденностью причин и исключительностью следствия. При всей строгости новеллистической формы Мопассан часто в рамках одной новеллы объединяет два эпизода, относящиеся к прошлому и настоящему (ср. выше о двухчастной форме у романтиков).
Совершенно по-другому и позднее новый подъем новеллы представлен в американской литературе в творчестве О. Генри, который на новый лад продолжает традиции Брет Гарта. Вместо мопассановской сатиры находим у О. Генри преимущественно стихию нежного юмора. О. Генри гораздо смелее вводит в новеллу анекдотические парадоксы, но их комическая острота смягчается за счет сентиментального и гуманного утверждения доброй натуры и благородства маленького человека. Некоторые слабые элементы импрессионизма можно обнаружить уже у Мопассана, тем более у О. Генри.
Гораздо ощутимее вклад импрессионизма в новеллу Чехова, который при этом также остается последовательным реалистом.
Чехов, как и Мопассан, охотно прибегает к поэтике анекдота и тоже отказывается, особенно на более позднем этапе, от всяких традиционных мотивов, иногда и от самого комизма, в чем заключается характерный парадокс новеллы конца века. Чехов заменяет традиционные мотивы глубинным, хотя и ненавязчивым, проникновением в быт и психологию, что формально как бы ослабляет «новеллистичность». Более того, Чехов уменьшает масштаб новеллистического события, ослабляет и его мотивировку, и его непосредственные последствия, «гасит» не только выделенность события из полного случайностей жизненного потока, но и самую исключительность, часто переносит акцент с события на внутренний подтекст. Чехов одновременно возрождает новеллу и трансформирует ее в антиновеллу. Своим импрессионизмом, нарушением, пусть даже мнимым, рационального поведения героев и рациональной организации повествования, а также некоторыми специфическими способами применения как лирических мотивов, так и гротеска Чехов предвосхищает развитие новеллы в XX в.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: