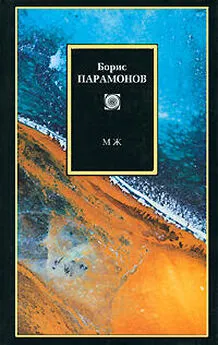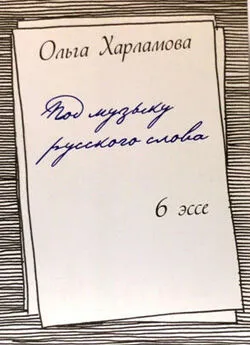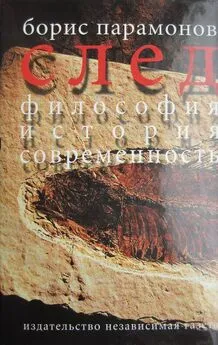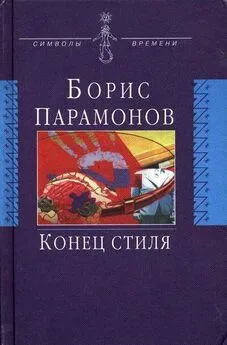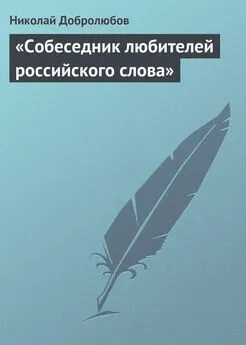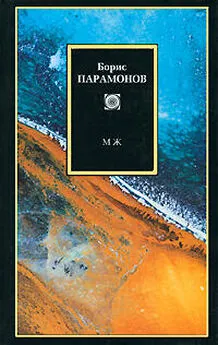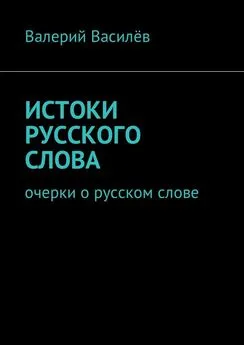Борис Парамонов - Бедлам как Вифлеем. Беседы любителей русского слова
- Название:Бедлам как Вифлеем. Беседы любителей русского слова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РАНХиГС (Дело)
- Год:2017
- ISBN:978-5-7749-1216-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Парамонов - Бедлам как Вифлеем. Беседы любителей русского слова краткое содержание
Хронологический диапазон – ХХ столетие, но с запасом: от Владимира Соловьева до Александра Солженицына. Жанровый принцип – разбор литературной фигуры, взятой целиком, в завершенности своего мифа. Собеседников интересуют концептуальные, психологические и стилистические вопросы творчества, причем их суждения меньше всего носят академический характер. К Набокову или Пастернаку соавторы идут через историю собственного прочтения этих писателей, к Ахматовой и Маяковскому – через полемику с их критиком К. Чуковским.
Предлагаемые беседы прозвучали на волнах «Радио Свобода» в 2012–2016 годах. Это не учебник, не лекции и тем более не проповеди, а просто свободный разговор через океан (Нью-Йорк – Прага) двух людей, считающих русскую словесность самой увлекательной вещью в мире.
Бедлам как Вифлеем. Беседы любителей русского слова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Конечно, этот трактат – «Искусство при свете совести» – собственное сочинение Цветаевой, в высшей степени органичное для нее. Но мне вспоминается другое сочинение, приведем важнейшую из него цитату:
Эта космическая основа искусства, его приобщенность ко вселенской тайне, делает художника выразителем первозданной сущности, которая и подсказывает, и нашептывает ему все то, что он повторяет в своих произведениях. Тайная грамота мира благодаря художнику становится явной. И поэтому, вследствие этого происхождения от самых недр бытия, все великие произведения искусства, кроме своего непосредственного смысла, имеют еще и другое, символическое значение. В своих глубинах недоступные даже для своих творцов, они хранят в себе этот естественный символизм, они развертывают бесконечные перспективы и в земную, и в небесную даль. Понять искусство в этой его многосторонности, истолковать хотя бы некоторые из его священных иероглифов, – вот что составляет одну из высоких задач критика.
Это Юлий Айхенвальд, из теоретического введения к его книге «Силуэты русских писателей», некий эстетический манифест, в свое время, в начале двадцатого века, наделавший много шума. След этого текста есть у Цветаевой в ее трактате. Больше скажу: она подписалась бы тут под каждым словом.
Это у Айхенвальда, своего рода «веховца», был полный и принципиальный разрыв с русской традицией, рассматривавшей литературу как ответ на общественно-исторические вопросы или даже, в более высоком понимании, как исследование человеческой души. Литература ориентирована не на мир и даже не на человека, а на космические тайны.
И. Т. : Мне вспомнилось, как в набоковской «Лолите» Гумберт Гумберт отвечает на приставание Шарлотты, донимающей его вопросом о религии: я верю в одухотворенность космоса.
Б. П. : Очень уместное замечание, пафос никогда не лишне снизить иронией. Говорят, сейчас в Москве есть выражение «пафосный ресторан».
И. Т. : Борис Михайлович, а как вы поясните перекличку Цветаевой с Кантом? Вы привели его формулу: гений – это разум, действующий как природа, а Цветаева в «Искусстве при свете совести» говорит: стихи, поэзия – это природа. Она читала Канта, что ли?
Б. П. : Так она сама все это поняла, став поэтом. Что и доказывает: поэзия, вообще искусство может быть средством гнозиса, познания. Причем познания, само собой, не научного, а некоего высшего: она дает то, что старые славянофилы и Владимир Соловьев называли цельным знанием: знанием, интуицией целостного бытия, вот этим самым его моделированием в поэтическом опусе, в художественном артефакте. Но, конечно, такие полеты в небесную высь не обходились без головокружения. «Мы Бога у богинь оспариваем / И девственницу у богов». Конечно, не обошлось без некоего, так сказать, смешения планов. Цветаева была необузданным человеком, и она в себе эту необузданность ценила. Помните эти вдохновенные слова в «Пушкине и Пугачеве»: нет поэзии без преступления, не преступил – не поэт.
И. Т. : И другие есть:
Меня, например, судят за то, что я своего шестилетнего сына не отдаю в школу <���…>, не понимая, что не отдаю-то я его именно потому, что пишу стихи <���…>
– А пишу-то такие стихи именно потому, что не отдаю.
Стихи хвалить, а за сына судить? Эх вы, лизатели сливок!
И вот эти слова с упоминанием сына и некоей демонстрацией вокруг не могут не напомнить ваше, Борис Михайлович, давнее уже сочинение – статью о Цветаевой под названием «Солдатка». Вы там написали, что Цветаеву связывали с малолетним сыном неподобающие отношения, что миф Цветаевой – Федра, инцест. Вы можете это сейчас повторить? Разъяснить? Или, как говорят нынче, ответить за базар?
Б. П. : Как вам известно, Иван Никитич, я сам стихи пишу и даже с некоторых пор печатаю. Более того: я любой текст, выходящий из-под моего пера, готов рассматривать как художественное построение, меня словосочетания интересуют больше, чем прямые смыслы, чем «информация». Так и та моя статья – особенно та – в некотором роде стихотворение.
И. Т. : Поставим вопрос по-другому, не столь заостренно на персоналиях. Просто: Цветаева и пол. Что тут можно и нужно сказать? Вот хотя бы об адресате цикла «Подруга» и о тогдашнем цветаевском скандале: едва родив ребенка – бросила и его, и мужа, ушла жить к любимой женщине.
Б. П. : Это как в фильме Вуди Аллена, надпись на майке: «Моя жена ушла от меня к другой женщине». Мне знаете что, Иван Никитич, начинает казаться? Что Цветаева была в каком-то смысле равнодушна к полу, это была для нее некая замещающая метафора. Важным же, важнейшим – было отношение к человеку, тому или другому, мужчине или женщине. Чувства, вызываемые человеком. А пол – это было для нее чем-то вроде разменной монеты. Ну принято у вас так, значит принято. Так можно сказать: Цветаева была в высшей степени эротична, но отнюдь не сексуальна. Она людей любила целостно, тотально, всеми силами души. И так же тотально разочаровывалась. Эти ее циклы влюбленностей – разрывов не совпадали ни с какими сексуальными влечениями или охлаждениями. Вот посмотрите, что она пишет той же Парнок:
И еще скажу устало,
– Слушать не спеши!
– Что твоя душа мне встала
Поперек души.
И еще тебе скажу я:
– Все равно – канун! —
Этот рот до поцелуя
Твоего был юн.
Взгляд – до взгляда – смел и светел,
Сердце – лет пяти…
Счастлив, кто тебя не встретил
На своем пути.
Или еще:
Есть женщины. – Их волосы, как шлем,
Их веер пахнет гибельно и тонко.
Им тридцать лет. – Зачем тебе, зачем
Моя душа спартанского ребенка?
Вы ощущаете полную, что ли, пассивность Цветаевой в этом дуэте? Это не ей нужно было, а Софье, а она уступала. «Если так суждено меж людьми».
И. Т. : У Блока «Разве так суждено меж людьми?»
Б. П. : Ну да, у него с эмфазой негативной, а у Цветаевой, если угодно, с жалобной.
Или вот другой пример возьмем, куда более выразительный, да и более скандальный, если хотите. Это из знаменитой тройственной переписки Пастернак – Рильке – Цветаева. Вот она пишет Рильке 2 августа 1926 года:
Райнер, я хочу к тебе, ради себя, той новой, которая может возникнуть лишь с тобой, в тебе. И еще, Райнер, <���…> не сердись, это ж я , я хочу спать с тобою – засыпать и спать. Чудное народное слово, как глубоко, как верно, как недвусмысленно, как точно то, что оно говорит. Просто – спать. И ничего больше. Нет, еще: зарыться головой в твое левое плечо, а руку – на твое правое – и ничего больше. Нет еще: даже в глубочайшем сне знать, что это ты. И еще: слушать, как звучит твое сердце. И – его целовать.
Пусть бросит в меня камень всякий плохо подумавший. Здесь идет речь не о сексе. Это – письмо ребенка к взрослому, Рильке для нее – явно отцовская фигура. Спать в чьем-то присутствии – высшая степень доверия. Это опять же спартанский ребенок – тот, которого использовала София Парнок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: