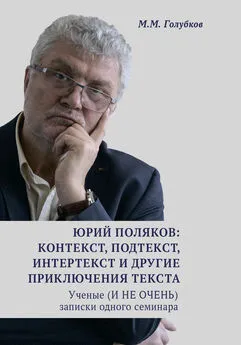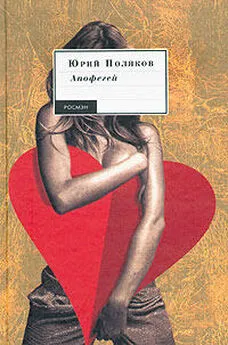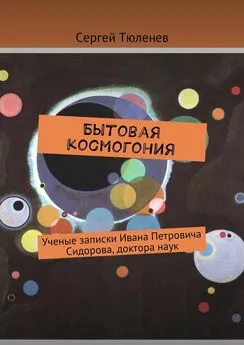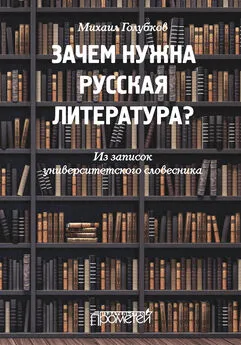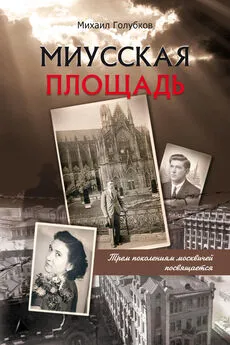Михаил Голубков - Юрий Поляков: контекст, подтекст, интертекст и другие приключения текста. Ученые (И НЕ ОЧЕНЬ) записки одного семинара
- Название:Юрий Поляков: контекст, подтекст, интертекст и другие приключения текста. Ученые (И НЕ ОЧЕНЬ) записки одного семинара
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прометей
- Год:2021
- ISBN:978-5-00172-132-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Голубков - Юрий Поляков: контекст, подтекст, интертекст и другие приключения текста. Ученые (И НЕ ОЧЕНЬ) записки одного семинара краткое содержание
Эти «приключения» художественных текстов исследовались в одном из семинаров, работающих на филологическом факультете Московского университета имени М.В. Ломоносова. Его участникам было интересно следить за неожиданными поворотами сюжета, который выстраивает сами литература, соединяя несоединимые, казалось бы, репутации и имена. В результате эти веселые штудии отразились в ученых (И НЕ ОЧЕНЬ) записях одного семинара. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Юрий Поляков: контекст, подтекст, интертекст и другие приключения текста. Ученые (И НЕ ОЧЕНЬ) записки одного семинара - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поляков с гордостью называет себя последним советским писателем. Он вовсе не готов отринуть себя от той творческой среды, в которой прошли первые годы его писательского становления, от советской литературной традиции, наследником которой себя ощущает. Однако в этом признании, звучащем даже и с вызовом, есть элемент горечи. Почему? Потому, вероятно, что в природе своего раннего творчества, которое он осмысливает как советское писательство, автору видится определенная двойственность. С одно стороны, это искреннее следование тому кругу мыслей и идей, что формировала советская литература, возможно, в первую очередь, социалистический реализм. С другой стороны, у поколения Полякова, которое входило в литературу в 80-е годы, не могли не сформироваться и не накопиться определенные сомнения в отношении жизненности этих идей. Именно в это время в обществе стал ощущаться зазор между официальной идеологией, ее догматами, исторической мифологией – и социальной реальностью позднего советского времени. Этот трагический по своей сути зазор можно определить как осознанное противоречие между социально-политической реальностью и нашим о ней представлением.
Игорь Дедков и опыт «московской школы»
Одной из черт общественного и литературно-критического сознания 80-х годов стал все усиливающийся и почти массовый скептицизм в отношении к официальной идеологии: к идеализации советской истории, к неадекватной трактовке настоящего, задрапированного пустыми лозунгами и расхожими пропагандистскими клише, к мифологизации образов советских политических деятелей, к безудержному восхвалению Брежнева, все более обретающего в народном сознании черты анекдотической фигуры. Увеличивалась дистанция между реальной жизнью человека, погруженного в повседневность, и пропагандой, весьма мало соотносимой с действительностью и вызывающей недоумение, апатию и раздражение. И самое главное: отчуждение власти и общества воспринималось как данность: люди были вполне равнодушны к власти, власть – к людям. Это странное состояние взаимного равнодушия, переходящего в презрение, точно выразил Венечка Ерофеев, характеризуя свои отношения с советской властью как наилучшие: она не замечает меня, я не замечаю ее.
Ярким документом, отражающим общественные настроения середины 80-х годов, стал «Дневник» И. Дедкова, яркого критика и публициста. Этот документ не предназначался для публикации, потому он не несет в себе авторской оглядки на цензуру. Дедкову, человеку, обостренно чувствующему время, удалось точно передать ощущение паузы в истории. Размышляя о политических событиях современности, освещаемых советской пропагандой, он с горечью констатировал: «Не замечают, как унижают, ни во что не ставят мысль народа о самом себе и своем государстве». «С уст дикторов программы «Время» не сходит имя Брежнева, “продолжателя дела Ленина и Октябрьской революции”, – записывал он далее. – Репортажи о различных заседаниях монтируются таким образом, чтобы в эфир выходили высказывания о заслугах Брежнева, все остальное не нужно. В февральской книжке «Нового мира» такие стихи Виктора Бокова: “По Спасской башне сверьте время. По съезду партии – себя. У нас у всех одна арена, у нас у всех одна судьба… Мы у мартенов, где гуденье, в цехах и шахтах – тоже мы. Мы коммунисты. Мы идейны, принципиальны и прямы…”». Барабанный бой и бездарное славословие в адрес вождей не могли заполнить идеологический и нравственный вакуум, ставший одной из причин крушения советской системы.
Это противоречие сформировало ощущение целого писательского поколения, которое вошло в литературу как поколение сорокалетних, составивших к середине 80-х годов так называемую «московскую школу». Представители этого поколения не чувствовали себя в контексте национальной жизни, не соотносили свою судьбу ни с деревенским ладом, ни с подвигами войны, воспринимали революционное прошлое как архаику, не имеющую прямого отношения к повседневности. Именно в повседневность, лишенную исторического контекста, было погружено это поколение, испытывающее искреннее равнодушие к идеологическим и литературным спорам предшественников и современников. Это было своего рода потерянное поколение советской истории, которое не имело ни героического прошлого, как фронтовики, ни исторической цели в настоящем, как новомировцы 60-х годов, воспринимая советскую повседневность как раз и навсегда остановившуюся в развитии, до конца воплотившуюся, а потому окостеневшую, не имеющую исторической перспективы и не поддающуюся реформированию. Да и каких-либо социально-исторических задач это поколение не ставило: его главной характеристикой была социальная апатия, которая выражалась либо в карьеристских устремлениях комсомольских лидеров, цинично выкликавших советские лозунги (именно ими пополнился класс нуворишей от бизнеса на рубеже 80—90-х годов), либо в полном отказе от любых форм советской социальности. На рубеже 70—80-х годов это поколение обрело свое направление в литературе и ярких критиков, способных выразить его очень специфическое мироощущение.
Это были писатели – «сорокалетние» (В. Маканин, А. Ким, А. Курчаткин, В. Курносенко, Р. Киреев, А. Проханов, В. Гусев и др.) или же представители «московской школы» (такое название дал им их критик, с ними же вошедший в литературу – В. Бондаренко). Людям военных и послевоенных лет рождения на рубеже 70—80-х годов, когда их поколение входило в литературу, было около сорока – отсюда и такое странное определение писательской генерации. Кроме того, их ближайшим предшественником стал Ю. Трифонов, автор московских повестей и романов. Однако это было не столько продолжение трифоновского взгляда на мир, сколько полемика и расхождение с ним. В сущности, «сорокалетние» предприняли радикальное разрушение идеологии своего предшественника. Они, в отличие от Ю. Трифонова, утверждали не наличие нитей, проходящих сквозь толщу исторического времени и укореняющих в нем человека, сколько принципиальное отсутствие самой идеи исторического времени, замену его частным временем. Подобная дистанция объяснялась принципиально разным социально-историческим опытом двух поколений, которым принадлежали Ю. Трифонов и его «последователи» – В. Маканин, А. Курчаткин, А. Ким, Р. Киреев: между ними пролегли два десятилетия.
«Сорокалетние» вошли в литературу именно поколением, вместе, и лишь потом обнаружилось принципиальное различие эстетики, литературного уровня и творческих задач, которые ставили перед собой его представители. Если неизвестен день литературного рождения «сорокалетних», то уж точно известен месяц: декабрь 1980 года, когда читатели популярного и в то же время элитарного, престижного тогда журнала «Литературное обозрение» прочли статью А. Курчаткина «Бремя штиля», в которой обосновывались поколенческие основы мировоззрения этих писателей. Курчаткину удалось очень точно сформулировать противоречие, разрешить которое было не под силу думающему человеку 80-х годов: «повсюдное разрушение прежних ценностных начал и жадное стремление к их обретению». Ответ не заставил себя ждать. Критик И. Дедков выступил со статьей «Когда развеялся лирический туман…» («Литературное обозрение», 1981, № 8), и стало ясно, что «сорокалетние» обрели себе непримиримого оппонента на ближайшее десятилетие. Две яркие полемические статьи, возвестившие о рождении нового литературного явления, способствовали укоренению в литературно-критическом сознании самого понятия «поколение сорокалетних». В скором времени они обрели своего критика, им стал В. Бондаренко, хотя и другие представители «московской школы» тоже выступали с опытами критической саморефлексии (В. Гусев, А. Курчаткин).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: