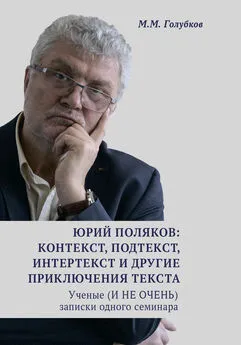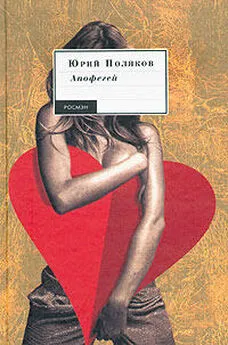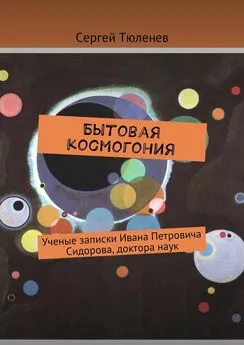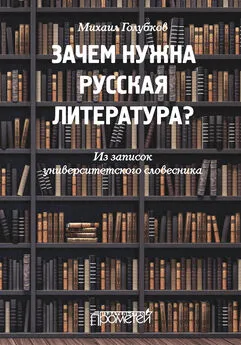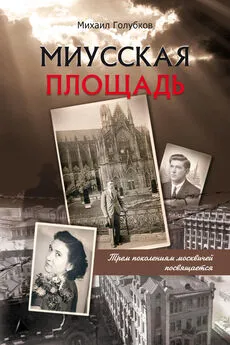Михаил Голубков - Юрий Поляков: контекст, подтекст, интертекст и другие приключения текста. Ученые (И НЕ ОЧЕНЬ) записки одного семинара
- Название:Юрий Поляков: контекст, подтекст, интертекст и другие приключения текста. Ученые (И НЕ ОЧЕНЬ) записки одного семинара
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прометей
- Год:2021
- ISBN:978-5-00172-132-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Голубков - Юрий Поляков: контекст, подтекст, интертекст и другие приключения текста. Ученые (И НЕ ОЧЕНЬ) записки одного семинара краткое содержание
Эти «приключения» художественных текстов исследовались в одном из семинаров, работающих на филологическом факультете Московского университета имени М.В. Ломоносова. Его участникам было интересно следить за неожиданными поворотами сюжета, который выстраивает сами литература, соединяя несоединимые, казалось бы, репутации и имена. В результате эти веселые штудии отразились в ученых (И НЕ ОЧЕНЬ) записях одного семинара. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Юрий Поляков: контекст, подтекст, интертекст и другие приключения текста. Ученые (И НЕ ОЧЕНЬ) записки одного семинара - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Та же история произошла с Гюзель Яхиной. Головокружительный успех «Зулейхи…» заставляет быстро писать следующий роман, «Дети мои». Исторически недостоверный да и в принципе невозможный в жестких реалиях ХХ века сюжет робинзонады, когда малограмотный учитель немецкого языка из немцев-колонистов Поволжья перебирается со своей возлюбленной через Волгу на противоположный крутой берег и оттуда пытается осмыслить исторические события начала века и гражданской войны, кажется просто надуманным, так же как и его фантастические видения, открывающиеся ему на дне Волги, уже ближе к концу… Нет, все-таки литература не может создаваться по приказу и принуждению – будь то рапповская дубинка, социальный заказ, требования партии или диктат рыночных отношений. И если в ближайшем личном и академическом окружении автора были читатели, принявшие «Авиатора», то принять «Дети мои» не смог никто. (Автор прекрасно осознает возможность другого, прямо противоположного, взгляда на вторую книгу Г. Яхиной, хотя сам не видит для него оснований).
Был ли у Ю. Полякова феномен второй книги? Думается, что нет. И дело даже не в том, что у нашего героя не случилось головокружение от успехов, когда он наутро проснулся знаменитым, о чем ему и сообщил главный редактор журнала «Юность» Дементьев. Дело не в том (не только в том!), что писательские возможности обеспечивали от романа к роману не оскудение, но приращение смысловой сложности и многогранности. Дело в том, что молодой писатель сражался с политической цензурой (и победил ее), но не с цензурой рынка, и к моменту ее торжества он уже обладал своим читателем, человеком своего поколения и своей среды – читателем, который верен ему и по сей день и круг которого расширяется, но не сужается.
Размышляя о понятии «художественная литература», Ю. Лотман писал: «Литература никогда не представляет собой аморфно-однородной суммы текстов: она не только организация, но и самоорганизующийся механизм» [Лотман 1992: 206] [1] Лотман Ю.М. О содержании и структуре понятия «художественная литература» // Ю.М. Лотман. Избранные статьи. В 3-х т. Т.1. Таллинн, 1992. С. 206.
. Это качество литературы, как полагали представители московско-тартуской семиотической школы, обусловлено способностью художественного произведения накапливать и генерировать смыслы при каждом новом его прочтении. Образная система произведения, заложенные в нем смыслы неисчерпаемы в силу того, что художественные «коды» просто не предполагают какое-то единственное прочтение, но принципиально подразумевают его многовариантность, поэтому каждая эпоха находит в нем свое, часто отличное от других эпох, звучание: «наступает новый исторический этап культуры, и ученые следующих поколений открывают новое лицо, казалось бы, давно изученных текстов, изумляясь слепоте своих предшественников и не задумываясь о том, что же скажут о них самих последующие литературоведы» [Лотман 1992: 215]. Эта удивительная способность художественного текста к генерации все новых и новых смысловых сфер обусловлена тем, что он рождается не только при его создании автором, но и при его прочтениях читателем – критиком, публицистом, литературоведом, любителем литературы – и читателями последующих поколений. Эта-та особенность литературного произведения и «привязывает» его ко времени его прочтения, актуализации, времени, сообщающему художественному тексту смысл спецификой и характером его нынешнего восприятия.
Говоря о художественной литературе как о динамическом целом, динамическом единстве, Лотман подчеркивал, что «мы сталкиваемся не с неподвижной суммой текстов, расставленных по полкам библиотеки, а с конфликтами, напряжением, «игрой» различных организующих сил [Лотман 1992: 215].
Ситуация, когда из 300 книг полноценную читательскую реакцию получают лишь несколько, остальные не находят ни читателей, ни критиков, ставит под сомнения представления Ю. Лотмана о литературе как саморазвивающейся системе, на которых воспитаны поколения современных литературоведов. Если оно и не полностью отвергается, то нуждается в серьезной корректировке. Ведь в основе представлений о литературе как о саморазвивающейся системе лежит мысль об интенсивном диалоге между современными книгами, который осуществляется в сознании читателя и артикулируется критиком, представителем читательской среды в литературе. Но в нынешней ситуации под вопросом оказываются сами диалогические отношения между книгами и их авторами. Противоречия между идейно-эстетическими концепциями мира и человека не осознаются и не рефлексируются. С чем связана подобная ситуация?
Во-первых, с тем, что издающиеся книги оказываются неизвестны читательскому сообществу, разобщенному и атомизированному: лишь единицы книг оказываются известны и популярны, прочитываются и осмысляются, остальные же попадают к читателю случайно и не оказываются в поле зрения читательского большинства.
Во-вторых, с резким снижением уровня литературно-критической мысли. Дар критика, возможно, более редкий, чем писательский дар, ныне не востребован. В результате роль критика резко изменилась. Критик теперь – не представитель читателя в литературе, а, скорее, коммивояжер и рекламный агент, распространяющий продукцию того или иного издательства или того или иного автора. Лозунг «читаю за деньги», который еще совсем недавно воспринимался как анекдотический, нынче вовсе лишен комического аспекта: критика ведь тоже профессия, почему бы и за деньги не читать? Какая уж тут рефлексия, какое уж тут представительство от лица читательского большинства? Нет, времена А. Макарова, М. Щеглова, В. Лакшина, И. Дедкова в далеком историческом прошлом…
В результате под вопросом оказывается не только лотмановское представление о литературе как о саморазвивающейся системе, но и о литературном процессе: а есть ли сейчас литературный процесс?
Литературный процесс – совокупность художественных явлений, длящихся во времени и имеющих между собой причинно-следственную связь. Это некий вектор, движение которого вперед обусловлено прошлым литературы и совокупностью явлений настоящего. Работает ли сейчас этот механизм литературного саморазвития?
Парадокс нынешней литературной ситуации состоит в том, что современная литература развивается, скорее, не во времени, а в пространстве. Понятие литературного процесса уместно будет заменить на понятие литературного пространства. Современная литература представляет собой бескрайнее поле, если позволительна подобная метафора, засеянное множеством литературных семян и дающее самые разнообразные плоды – от цветов зла до ярчайших роз и пионов; от сорняков до культурных растений; от полевых цветов до рафинированных голландских тюльпанов. Однако это бескрайнее поле оказывается необозримо: на нем нет вышки, на которую мог бы подняться читатель (или критик как квалифицированный читатель) и обозреть все поле. Да и критик, который был бы способен увидеть и осмыслить всю современную литературную топографию, явно не востребован современным читателем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: