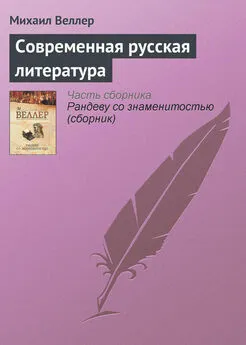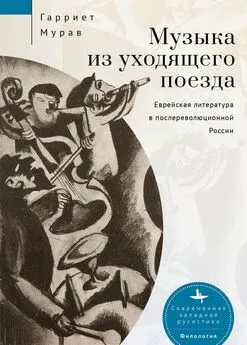Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Название:Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816035
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клавдия Смола - Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература краткое содержание
Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Последствия такой двусмысленной причастности Лев показывает на примере своего отца – Якова Абрамовича. Сначала отец изучал Талмуд, затем марксизм – и до конца хранил верность интернационалистическим идеям советского коммунизма. Юдофобию он склонен был сводить к частным случаям, считая ее отклонением от нормы. В 1970-е годы, во время антисионистской кампании, убедившись в системности преследований, он начинает с маниакальным упорством собирать картотеку исторических доказательств того, что евреи – обычные люди и в истории им доводилось играть самую разную роль; Лев Каценеленбоген называет это «бунтом на коленях» [Там же: 72].
Мишенью посттоталитарного письма Мелихова становится миф о многонациональном советском единстве, этом «Эдеме», уподобляемом здоровому живому организму. Для того чтобы сакральная телеология диктатуры – создание рая на земле – оказалась действенной, говорит рассказчик, режим должен придумать, а затем искоренить чужаков, создавая тем самым иллюзию достижения полной гомогенности. Поддерживать это единство помогают «люди-фагоциты» [Там же: 31], которые, выявляя и уничтожая инородные тела, защищают иммунную систему народного организма [Там же: 31 f.]. Сталин как раз потому, поясняет Каценеленбоген, был истинно народным вождем, что сумел осуществить единственную мечту всякого народа, куда более важную, нежели достойные условия жизни, – мечту о жизни без чужаков: «А потому еврей был неизмеримо более опасен, чем скромный убийца, ни на что серьезное не покушавшийся» [Там же: 44]. По этой причине еврейство оказывается не национальностью, а социальной ролью 382[Там же: 13 f.], гарантирующей сохранность целого 383. При помощи этой развернутой биологической метафоры режима рассказчик развенчивает представление – опять-таки подаваемое как типично еврейское и идеалистическое – о вине партии и не(по)винности народа: «…верхушка не бывает антинародной» [Там же: 61]. Как и у Юдсона, протагонист ведет миф о русском героизме и традицию бестиализации/демонизации чужаков от истоков русской государственности: он цитирует летописи и упоминает признанных русских героев, в ряду которых Сталин соседствует с Александром Невским: в ненависти к чужим первые историки сходятся с современным государством и народными суевериями.
Впрочем, еврейское как противоположное русскому стоит у Мелихова в одном ряду с другими конструктами инаковости: «…Америка для американцев, Европа для белых, Россия для русских, квартира для своих» [Там же: 34]. Совершенно в духе антиколониальной критики Лев Каценеленбоген перечисляет исторические интеллектуальные концепции, легитимирующие этническую сегрегацию как цивилизаторскую историческую миссию: «…англичанин-мудрец, несущий бремя белых, […] гордый германец, желающий во имя справедливости освободить для своего народа жизненное пространство от славянских недочеловеков, чистый духом и телом имам» [Там же: 201] 384.
Когда юный герой теряет в финале романа глаз, его непоправимая другость визуально заостряется: она теперь окончательно и бесповоротно вписана в его тело, т. е. иронически натурализована ; увечье лишь завершает стигматизацию. Во время посещения столицы «единственного» государства, Москвы, мальчика охватывает восторженное благоговение перед святынями – Кремлем и Мавзолеем – и чувство вожделенной причастности к «Единству». В этом эпизоде антитеза монструозного государства и его верного подданного, жалкого калеки, воплощается в страшной картине – трагикомической аллюзии на «Медного всадника»:
Легкие готовы были лопнуть от непрерывного вдоха. Святыни были великодушнее, чем люди, – они не возражали, что справедливо оплеванный Косой – Подавился Колбасой пялился на них уцелевшим глазом [Там же: 238].
Литературная деколонизация производится в романе Александра Мелихова на разных уровнях. Подражательное воспроизведение стереотипов о евреях и унизительных выражений (чаще всего пейоративов «жид», «жиды», «жиденята» [Там же: 19, 23, 49]) представляет собой «акт обратного антиколониального языкового насилия», о котором с отсылкой к Генри Луису Гейтсу пишет Дирк Уффельманн, рассуждая о прозе польских эмигрантов [Uffelmann 2009a: 157–160]. Повествователь же создает текст, который перформативно опровергает предполагаемую еврейскую чужеродность, так как, например, свидетельствует о блестящем владении им культурой большинства. Сам этот рассказ – текст романа – характеризует Льва Каценеленбогена как высокообразованного русского интеллигента – и в этом качестве опять-таки аутсайдера, «далекого от народа». Характерная составляющая такого перформативного автобиографического свидетельства – его интертекстуальность: многочисленные завуалированные, рассчитанные на знающего читателя отсылки к русской литературе и истории или рассуждения об антиеврейской мысли в России, начиная с Достоевского и до наших дней 385.
Типичная для постколониального сознания «фундаментальная неустойчивость и внутренняя расщепленность» [Birk/Neumann 2002: 126] рождает в герое в посткоммунистическом настоящем глубокое недоверие к идее примкнуть к какому бы то ни было коллективу или последовать за высшей идеей: против этого отвращения бессильно и сплочение граждан против коммунистов во время августовского путча 1991 года, в котором герой распознает зачатки нового национализма и новой сегрегации 386.
Невротический язык еврейской ненависти к себе и дискурс самоуничижительных откровений в стиле «Записок из подполья» Достоевского роднят «Исповедь еврея» с романом «Жизнь Александра Зильбера» (1975) Юрия Карабчиевского, созданным почти на два десятилетия раньше. Описанное Фаноном формирование угнетенного субъекта посредством «белого взгляда» у Карабчиевского находит отражение в сцене, где маленький Саша Зильбер, поймав на себе в школьном автобусе взгляд своего будущего мучителя Самойлова, безошибочным инстинктом жертвы узнает этот предвкушающий садистский взгляд, хотя никогда прежде не видел Самойлова [Карабчиевский 1991: 10–11]. В романе рефлексируются не только страдания еврейского ребенка, а потом юноши в позднесоветской и постсоветской России, но и психическая изнанка антисемитского Othering , производства Другого . Historia morbi – история «этой странной болезни», по выражению самого героя [Там же: 38], – представляет собой череду безуспешных попыток сокрытия, приспособления и притворства, раз за разом оканчивающихся крахом, стыдом и приступами отвращения к себе. Презрение к самому себе как чужой проекции показано в создании собственного ненавидимого Другого в лице отчима героя. Образ отчима Якова воспроизводит многовековые антиеврейские стереотипы: Александру противны его женственное, обезьянье тело, его толстые волосатые пальцы, влажные губы, привычка считать деньги на идише и нечистый русский. Для юного интеллектуала, воспитанного на русско-советской культуре, идиш метонимически воплощает свое другое, отвратительное, гонимое «я». Герой дистанцируется от «пародийного» [Там же: 43] приемного языка инаковости, воспроизводя общие места юдофобии: « Эйн-ын-цвонцик, цвей-ын-цвонцик, драй-ын-цвонцик … (курсив в оригинале. – К. С. ) Эники-беники ели вареники… Кто же это в незапамятные времена обладал таким изощренным слухом, чтобы в кованом строе немецкой речи различить все черты местечкового балагана?» [Там же]. Социопсихологический феномен антисемитизма у Карабчиевского оборачивается своим патологическим отражением, симптомом идиосинкратического самовосприятия жертвы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
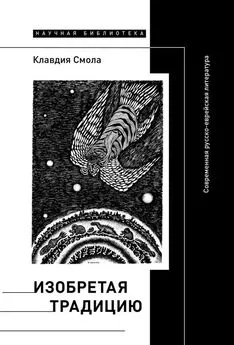




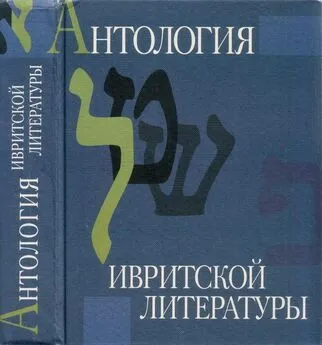
![Кирилл Королев - «Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья]](/books/1068720/kirill-korolev-izobretaya-tradicii-metamorfozy-f.webp)
![Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)