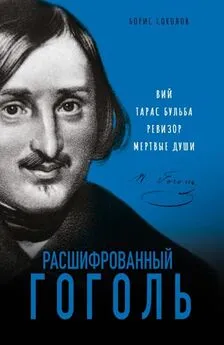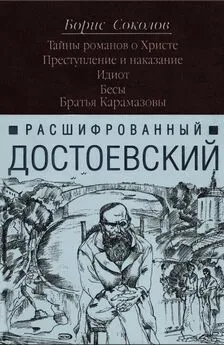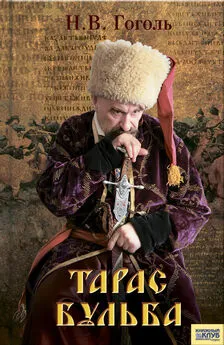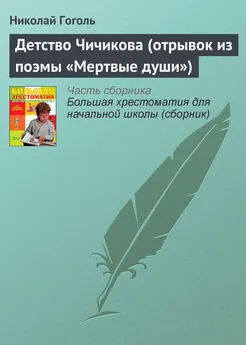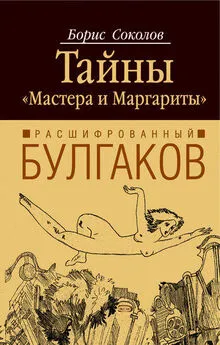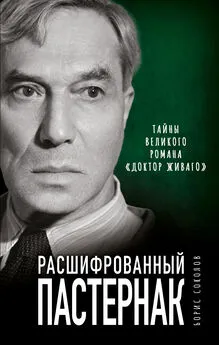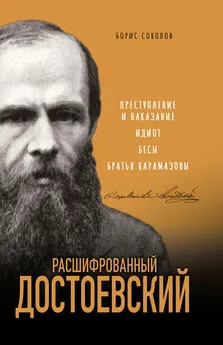Борис Соколов - Расшифрованный Гоголь. «Вий», «Тарас Бульба», «Ревизор», «Мертвые души»
- Название:Расшифрованный Гоголь. «Вий», «Тарас Бульба», «Ревизор», «Мертвые души»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Яуза
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-118455-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Соколов - Расшифрованный Гоголь. «Вий», «Тарас Бульба», «Ревизор», «Мертвые души» краткое содержание
Как соотносятся образы «Вия» с мировой демонологической традицией? Что в повести «Тарас Бульба» соответствует исторической правде, а что является художественным вымыслом? Какова инфернальная подоснова «Ревизора» и «Мертвых душ» и кто из известных современников Гоголя послужил прототипами героев этих произведений? О чем хотел написать Гоголь во втором томе «Мертвых душ» и почему он не смог закончить свое великое произведение? Возможно, он предвидел судьбу России?
На эти и другие вопросы читатель найдет ответы в книге «Расшифрованный Гоголь». В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Расшифрованный Гоголь. «Вий», «Тарас Бульба», «Ревизор», «Мертвые души» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Все побежало за Краевским. К Краевскому.
У него был дом на Литейном. «Павел Иванович уже оперился».
И в трубу «Отеч. Записок» дал «Евангелие общественности».
Главную тайну Гоголя Розанов видел в том, что «он показал всю Россию бездоблестной, – небытием. Показал с такой невероятной силой и яркостью, что зрители ослепли и на минуту перестали видеть действительность, перестали что-нибудь знать, перестали понимать, что ничего подобного «Мертвым душам», конечно, нет в живой жизни и в полноте живой жизни. Один вой, жалобный, убитый, пронесся по стране: «Ничего нет…», «Пусто!..», «Пуст Божий мир…» Таким образом, Гоголь непроизвольно создал карикатуру, но в этой непроизвольности была ее сила. Гоголь – манекен, моргающий глазами в бесплодных поисках смысла того, что он написал, а потому, пишет Розанов, «я не решусь удержаться выговорить последнее слово: идиот. Он был так же неколебим и устойчив, так же не «сворачиваем в сторону», как лишенный внутри себя всякого разума и всякого смысла человек. «Пишу» и «sic». Великолепно. Но какая же мысль? Идиот таращит глаза, не понимает. «Словечки» великолепны. «Словечки» как ни у кого. И он хорошо видит, что «как ни у кого», и восхищен бессмысленным восхищением, и горд тоже бессмысленной гордостью». Но в 1918 году Василий Васильевич признал, что «революция оправдала Гоголя». В «Опавших листьях» он констатировал: «Перестаешь верить действительности, читая Гоголя. Свет искусства, льющийся из него, заливает все. Теряешь осязание, зрение и веришь только ему». И тут же добавил: «Щедрин около Гоголя как конюх около Александра Македонского.
Да Гоголь и есть Алекс. Мак. Так же велики и обширны завоевания. И «вновь открытые страны». Даже – «Индия» есть.
Ни один политик и ни один политический писатель в мире не произвел в «политике» так много, как Гоголь.
(за вечерним чаем)».
А в «Уединенном» Розанов особо выделил тип Добчинского как ключевой для понимания новейшей российской истории: «Поразительно, что к гробу Толстого сбежались все Добчинские со всей России, и, кроме Добчинских, никого там и не было, они теснотою толпы никого еще туда и не пропустили. Так что «похороны Толстого» в то же время вышли «выставкою Добчинских»…
Суть Добчинского – «чтобы обо мне узнали в Петербурге». Именно одно это желание и подхлестнуло всех побежать. Объявился какой-то «Союз союзов» и «Центральный комитет 20-ти литературных обществ»… О Толстом никто не помнил: каждый сюда бежал, чтобы вскочить на кафедру и, что-то проболтав, – все равно что, – ткнуть перстом в грудь и сказать: «Вот я, Добчинский, живу; современник вам и Толстому. Разделяю его мысли, восхищаюсь его гением; но вы запомните, что я именно – Добчинский, и не смешайте мою фамилию с чьей-нибудь другой».
Никогда не было такого позора, никогда литература не была так жалка. Никогда она не являла такой безжалостности: ибо Т-го можно было и пожалеть (последняя драма), можно было о нем и подумать. Но ничего, ровно ничего такого не было. В воздухе вдруг пронеслось ликование: «И я взойду на эстраду». Шум поднялся на улице. Едут, спешат:
– «Вы будете говорить?» – «И я буду говорить». – «Мы все теперь будем говорить»… «И уж в другое время, может, нас и не послушали бы, а теперь непременно выслушают, и запомнят, что вот бородка клинышком, лицо белобрысое, и задумчивые голубые глаза»… «Я, Добчинский: и зовут меня Семеном Петровичем».
Это продолжалось, должно быть, недели две. И в эти две недели вихря никто не почувствовал позора. Слова «довольно» и «тише» раздались не ранее, как недели две спустя после смерти. «Тут-то я блесну умом…» И коллективно все блеснуло пошлостью, да такой, какой от Фонвизина не случалось.
Нужно ли говорить, что все «говорившие» не имели ни йоты роднящего, родного с Толстым. Были ему совершенно чужды, даже враждебны; и в отношении их самих Толстой был совершенно чужой, и даже был им всем враг.
Всю жизнь он полагал именно на борьбу с такими, на просвещение таких, на то, чтобы разбудить таких, воскресить, преобразить…
И вдруг такое: finis coronat opus!
Ужасно.
Добчинского, если б он жил в более «граждански-развитую эпоху», – и представить нельзя иначе как журналистом или, еще правильнее – стоящим во главе «литературно-политического» журнала; а Ноздрев писал бы у него передовицы… Это – в тихое время; в бурное – Добчинский бегал бы с прокламациями, а Ноздрев был бы «за Родичева». И, кто знает, вдвоем не совершили ли бы они переворота. «Не боги горшки обжигают»…»
Беда в том, что маленький человек, которому, как маленькому человеку, Гоголь горячо сочувствовал, обуреваем бесом тщеславия, и тогда он вырастает до зловещих мефистофелевых высот, как Акакий Акакиевич в «Шинели». Гоголь прозрел беса едва ли не в каждом человеке. Он прозрел революционных бесов еще до того, как они по-настоящему вышли на свет. Писатель убедил себя, что те пороки, которые он выставлял своей сатирой на всеобщее осмеяние, носят поистине вселенский характер. Но тонкая оболочка нравственности прорвалась, и бесы вышли наружу именно в России, полвека с лишком спустя после смерти Гоголя.
В «Апокалипсисе нашего времени» (1918), размышляя о причинах победы революции, Розанов признал правоту Гоголя: «Разошлись по мелочам. Прав этот бес Гоголь». Как заметил по этому поводу Виктор Ерофеев, «в борьбе с Гоголем Розанов в конечном счете честно признал свое поражение. Парадоксально, но факт: революция открыла Розанову глаза на правду Гоголя». 26 октября 1918 года Розанов писал Э. Ф. Голлербаху: «Любовь к родине – чревна, и если Вы встретите Луначарского, ищите в нем тени русской задумчивости, русского «странствия по лесам и горам»; и так, – любите русского человека «до социализма», понимая всю глубину «социальной пошлости» и социальной «братство, равенство и свобода». И вот, несите «знамя свободы», эту омерзительную красную тряпку, как любил же ведь Гоголь Русь с ее «ведьмами», с «повытчик Кувшинное рыло», – только надписав «моим горьким смехом посмеюся». Неужели он, хохол, и след. чуть-чуть инородец, чуть-чуть иностранец, как и Гильфердинг, и Даль, Востоков, – имеют права больше любить Россию, крепче любить Россию, чем Великоросс. Целую жизнь я отрицал тебя в каком-то ужасе, но ты предстал мне теперь в своей полной истине, Щедрин, беру тебя и благословляю. Проклятая Россия, благословенная Россия. Но благословенна именно на конце. Конец, конец, именно – конец. Что делать: гнило, гнило, гнило. Нет зерна, – пусто, вонь; нет Родины, пуста она. Зачеркнута, небытие. Не верь, о, не верь небытию, и – никогда не верь. Верь именно в бытие, только в бытие, в одно бытие. И когда на месте умершего вонючее пустое место с горошинку, вот тут-то и зародыш, воскресение. Не все ли умерло в Гоголе? Но все воскресло в Достоевском». Гоголь здесь был невольно контаминирован с Салтыковым-Щедриным. А еще ранее, в феврале 1918 года, Розанов признавался в письме к П. Б. Струве: «Я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя: и в 62 года думаю: «Ты победил, ужасный хохол».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: